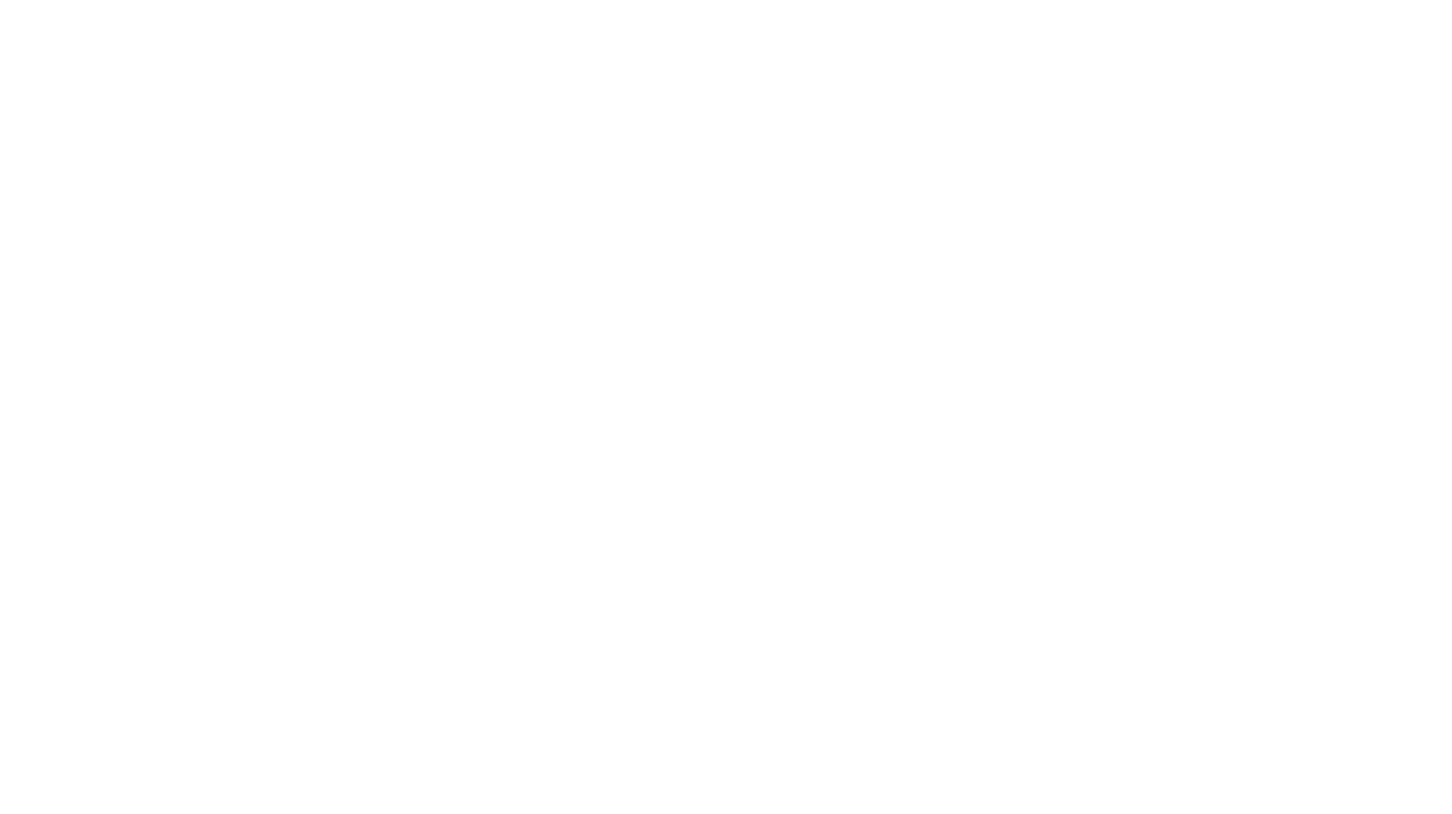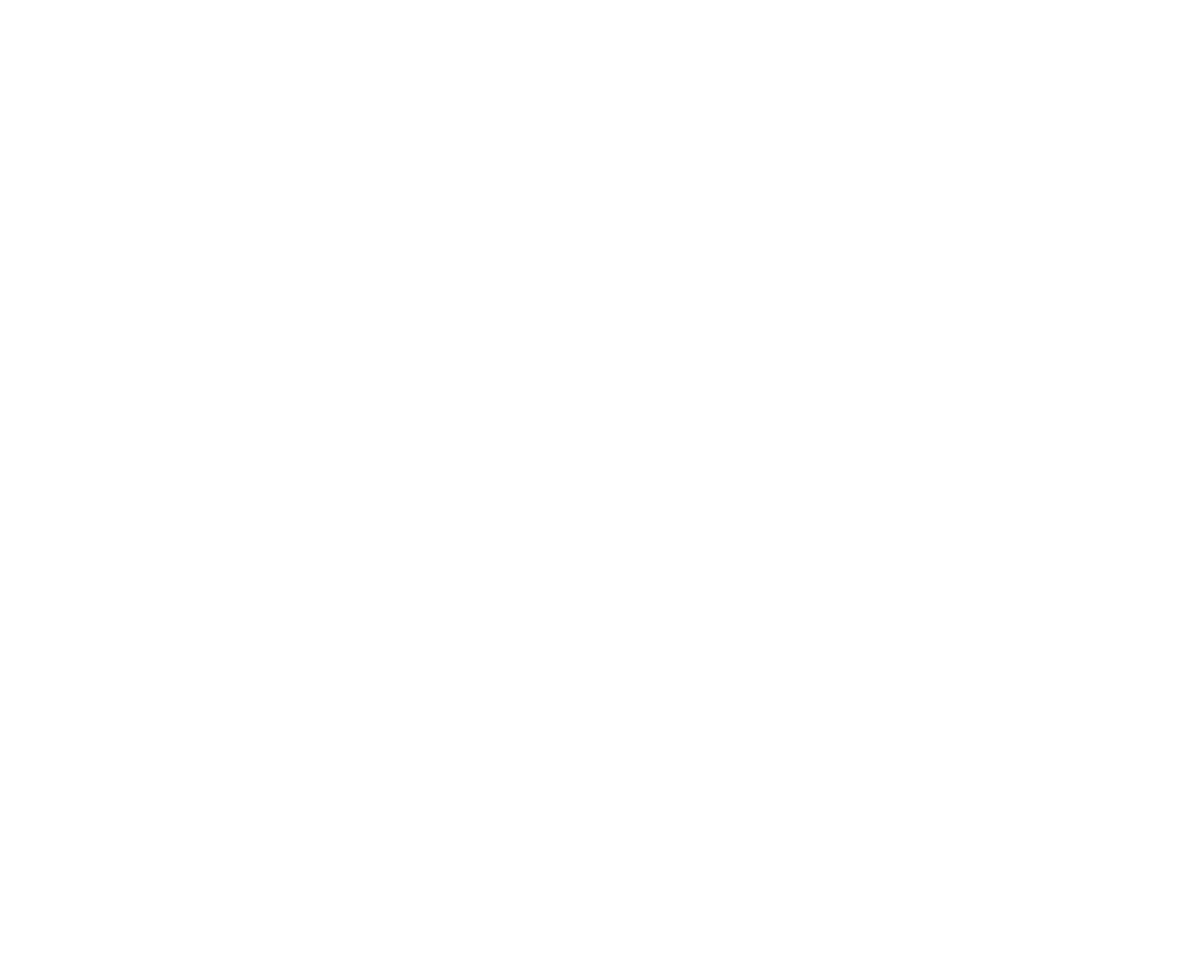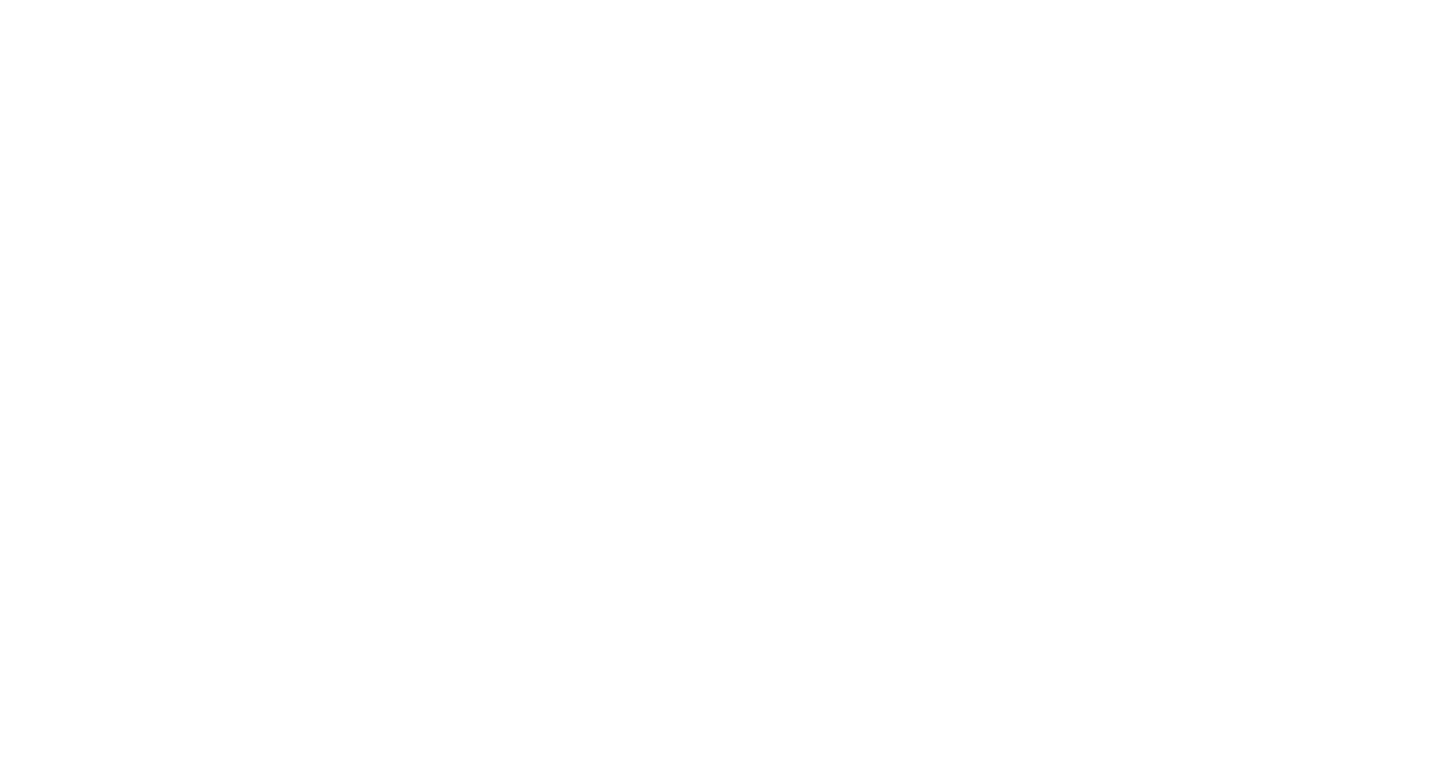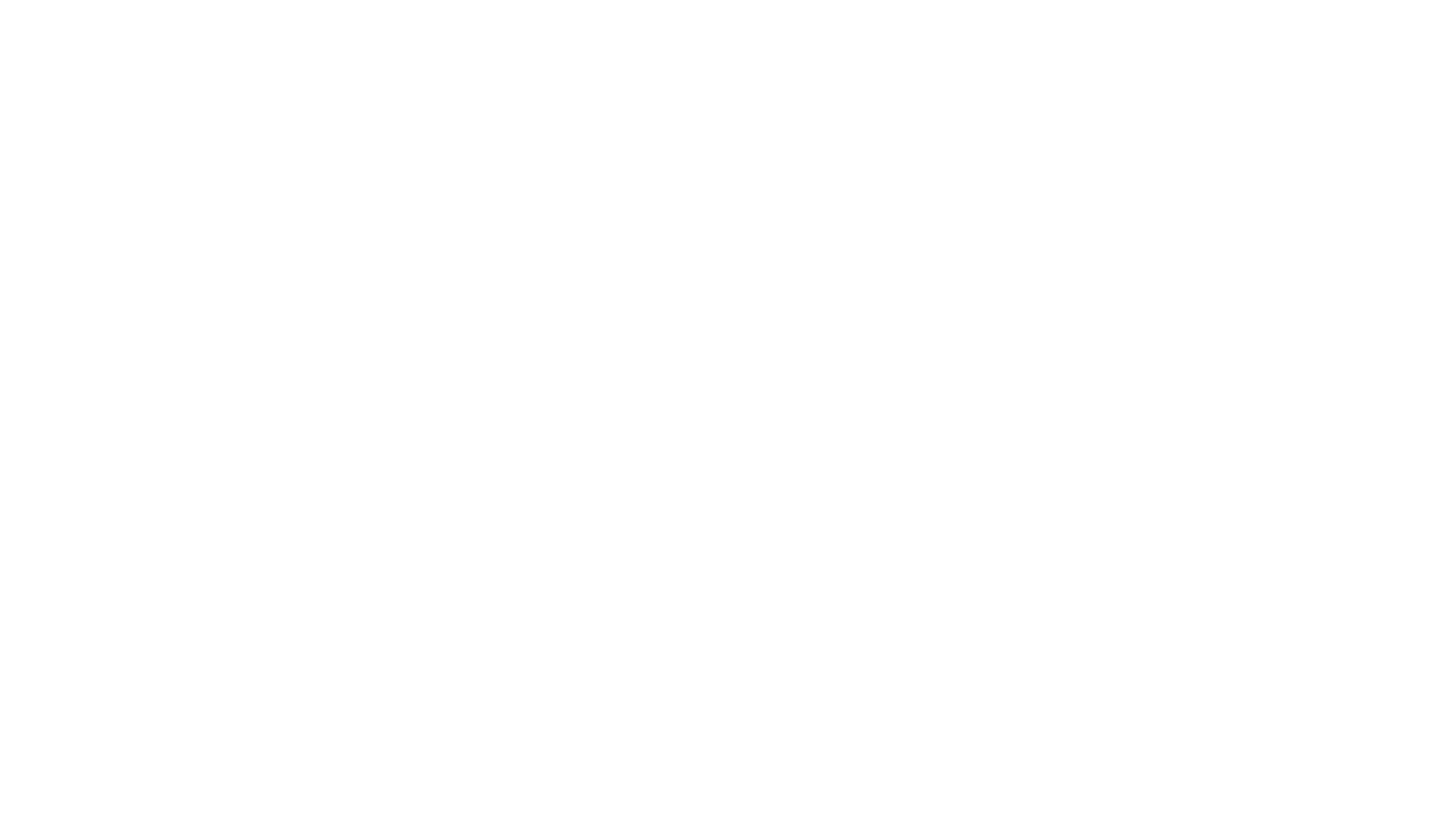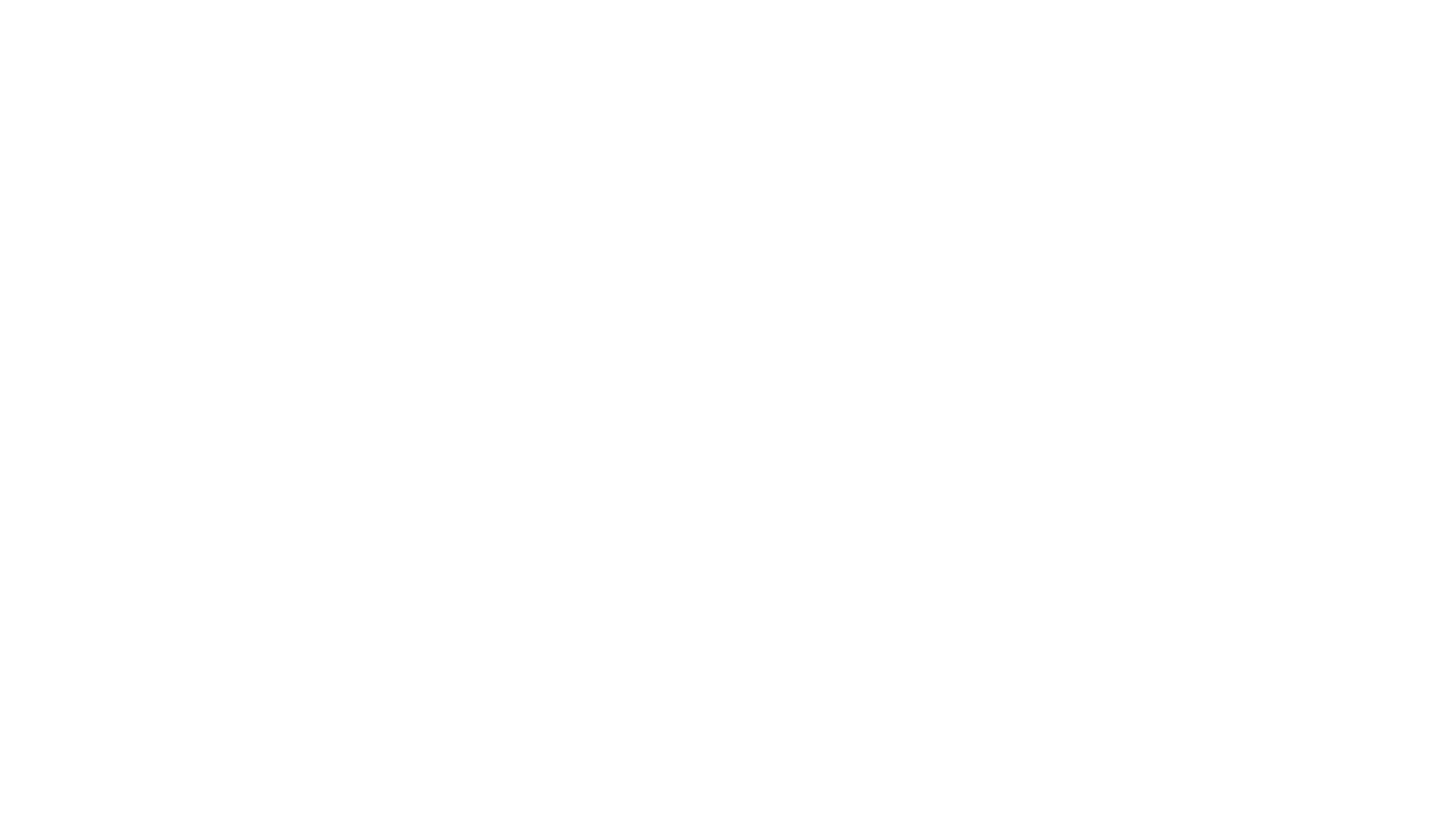#видеоигры
Мироподобный зал
Пересказ-перевод статьи о пространстве, скайбоксе и идеологии в open world-играх
Источник: Bonner, Marc. “The World-Shaped Hall: On the Architectonics of the Open World Skybox and the Ideological Implications of the Open World Chronotope.” In Game | World | Architectonics: Transdisciplinary Approaches on Structures and Mechanics, Levels and Spaces, Aesthetics and Perception, ed. Marc Bonner, Heidelberg University Publishing, 2021
Почему открытые миры в видеоиграх кажутся нам такими свободными — и что на самом деле скрывается за этой иллюзией? Как архитектура виртуального пространства влияет на наше восприятие времени, движения и даже на представления о свободе выбора? На эти вопросы отвечает исследователь медиа и игр Марк Боннер в своей теоретической статье «The World-Shaped Hall».
В последние годы мы привыкли воспринимать open world как синоним свободы. Игрок волен идти куда хочет, выполнять задания в любом порядке или вовсе их игнорировать. Однако немецкий медиатеоретик и историк архитектуры видеоигр Марк Боннер предлагает совершенно иной взгляд: он утверждает, что открытые миры — это не хаос и случайность, а сложные и жёстко структурированные пространства, подчинённые заранее заданной архитектонике.
В своей статье «The World-Shaped Hall» Боннер предлагает необычную теоретическую модель: он сравнивает скайбокс видеоигры с Хрустальным дворцом XIX века, а хронотоп открытого мира — с философскими концепциями Михаила Бахтина и Делёза & Гваттари. Игровой мир здесь становится не просто сценой для действия, а системой управления вниманием и переживанием игрока.
Этот текст — подробный пересказ-перевод ключевых идей статьи, с комментариями и пояснениями. Статья может быть особенно полезна всем, кто работает на стыке архитектуры, теории медиа и гейм-дизайна
В своей статье «The World-Shaped Hall» Боннер предлагает необычную теоретическую модель: он сравнивает скайбокс видеоигры с Хрустальным дворцом XIX века, а хронотоп открытого мира — с философскими концепциями Михаила Бахтина и Делёза & Гваттари. Игровой мир здесь становится не просто сценой для действия, а системой управления вниманием и переживанием игрока.
Этот текст — подробный пересказ-перевод ключевых идей статьи, с комментариями и пояснениями. Статья может быть особенно полезна всем, кто работает на стыке архитектуры, теории медиа и гейм-дизайна
Введение
Марк Боннер открывает главу с постановки задачи: он предлагает трансдисциплинарный анализ архитектурной структуры (архитектоники) open world-игр. Главная цель — исследовать, каким образом создаются и функционируют пространства в таких играх, в частности через понятия skybox и хронотоп.
Он вводит два ключевых понятия:
Скайбокс как архитектурный элемент
Скайбокс — это внешняя оболочка игрового мира, которая создаёт иллюзию бесконечного пространства. Обычно он реализуется как сфера или куб с наложенной текстурой, например, неба, гор, горизонта. Хотя с технической точки зрения он статичен, игрок воспринимает его как бесконечную и живую часть мира.
Боннер сравнивает скайбокс с барочными фресками и другими историческими приёмами визуального обмана, подчёркивая его функцию — расширять границы видимого и вписывать игрока внутрь «тотального» пространства.
Алгоритмы и технические приёмы
Далее Боннер переходит к описанию того, как open world строятся на уровне движка:
Таким образом, игрок никогда не видит мир полностью, но ощущает его как цельный. Это и есть иллюзия «мироподобного зала».
Историческая аналогия: Хрустальный дворец
Чтобы объяснить эту иллюзию, Боннер вводит мощную метафору — сравнение open world-игры со знаменитым Кристал-Пэласом (Crystal Palace), построенным Джозефом Пакстоном к Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году.
Хрустальный дворец был огромным стеклянным зданием, внутри которого демонстрировались репрезентации всего мира — ботанические сады, образцы архитектуры, экзотические объекты. По мнению Боннера, он функционировал как «архитектура мира внутри себя» — как бы вбирая в себя весь внешний мир. Философ Петер Слотердайк называл его «мироподобным залом» (weltförmige Halle).
Переосмысление пещеры Платона
В оппозицию к этому Боннер приводит интерпретацию Платоновой пещеры, предложенную Маркусом Раутценбергом, где skybox интерпретируется как «цифровая пещера». Однако Боннер с этим не согласен: по его мнению, open world не замыкает игрока, а наоборот — создает иллюзию бесконечного и открытого мира, наподобие Хрустального дворца.
Вывод из первой части
Open world-игры представляют собой особый тип архитектуры — они вбирают в себя весь окружающий мир, собирая «фрагменты» (биомы, стили, топографии) и перекомбинируя их в плотную и связную структуру. Это и есть «мироподобный зал»: внутренняя тотальность, симулирующая внешнюю бесконечность.
Марк Боннер открывает главу с постановки задачи: он предлагает трансдисциплинарный анализ архитектурной структуры (архитектоники) open world-игр. Главная цель — исследовать, каким образом создаются и функционируют пространства в таких играх, в частности через понятия skybox и хронотоп.
Он вводит два ключевых понятия:
- «Мироподобный зал» (world-shaped hall) — метафора для описания скайбокса и его роли в формировании игрового мира;
- «Хронотоп открытого мира» (open world chronotope) — адаптация литературного понятия Михаила Бахтина, описывающая структуру пространства-времени в open world.
Скайбокс как архитектурный элемент
Скайбокс — это внешняя оболочка игрового мира, которая создаёт иллюзию бесконечного пространства. Обычно он реализуется как сфера или куб с наложенной текстурой, например, неба, гор, горизонта. Хотя с технической точки зрения он статичен, игрок воспринимает его как бесконечную и живую часть мира.
Боннер сравнивает скайбокс с барочными фресками и другими историческими приёмами визуального обмана, подчёркивая его функцию — расширять границы видимого и вписывать игрока внутрь «тотального» пространства.
Алгоритмы и технические приёмы
Далее Боннер переходит к описанию того, как open world строятся на уровне движка:
- Игровой мир представлен как совокупность активной зоны (где действует игрок) и пассивной (фон);
- Используется система LOD (level of detail) — объекты на расстоянии заменяются на более простые версии;
- Реализуется «frustum culling» — отрисовка только тех объектов, которые попадают в поле зрения камеры.
Таким образом, игрок никогда не видит мир полностью, но ощущает его как цельный. Это и есть иллюзия «мироподобного зала».
Историческая аналогия: Хрустальный дворец
Чтобы объяснить эту иллюзию, Боннер вводит мощную метафору — сравнение open world-игры со знаменитым Кристал-Пэласом (Crystal Palace), построенным Джозефом Пакстоном к Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году.
Хрустальный дворец был огромным стеклянным зданием, внутри которого демонстрировались репрезентации всего мира — ботанические сады, образцы архитектуры, экзотические объекты. По мнению Боннера, он функционировал как «архитектура мира внутри себя» — как бы вбирая в себя весь внешний мир. Философ Петер Слотердайк называл его «мироподобным залом» (weltförmige Halle).
Переосмысление пещеры Платона
В оппозицию к этому Боннер приводит интерпретацию Платоновой пещеры, предложенную Маркусом Раутценбергом, где skybox интерпретируется как «цифровая пещера». Однако Боннер с этим не согласен: по его мнению, open world не замыкает игрока, а наоборот — создает иллюзию бесконечного и открытого мира, наподобие Хрустального дворца.
Вывод из первой части
Open world-игры представляют собой особый тип архитектуры — они вбирают в себя весь окружающий мир, собирая «фрагменты» (биомы, стили, топографии) и перекомбинируя их в плотную и связную структуру. Это и есть «мироподобный зал»: внутренняя тотальность, симулирующая внешнюю бесконечность.
Хронотоп открытого мира и его двойственная структура
Хронотоп по Бахтину
Боннер заимствует понятие хронотопа у советского философа и литературоведа Михаила Бахтина, который вводит его для анализа пространственно-временных структур в литературных жанрах. У Бахтина хронотоп — это не просто сцена, где разворачивается действие, а форма организации времени и пространства, определяющая структуру самого мира произведения.
Применение хронотопа к open world
Боннер адаптирует эту идею к видеоиграм и особенно к open world. Он предлагает трактовать хронотоп не только как «фоновое» пространство, но как активную среду, структурирующую поведение игрока. Он выдвигает тезис: в open world-играх пространство становится даже важнее времени — через его структуру игрок переживает мир.
Чтобы охарактеризовать хронотоп открытого мира, Боннер делит его на два взаимосвязанных измерения:
Эти термины он берёт из книги Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Тысяча плато» (Mille plateaux), где «гладкое» пространство — это непрерывное, изменчивое, текучее поле, а «полосатое» — структурированное, метризованное, управляемое.
Топология: горизонт, исследование и перспектива
Пример: в Horizon Zero Dawn игрок может в какой-то момент случайно заметить башню далеко в горах — она не подсвечена маркером, но притягивает внимание. Игрок может отправиться к ней по собственному желанию — и это станет не квестом, а актом перспективного исследования. Такой путь — от точки к точке, от горизонта к горизонту — Боннер называет «prospect pacing» (пошаговая перспектива).
Он опирается на работы Джей Апплтона (эколог и эстетик), который считал, что ключевую роль в восприятии ландшафта играет возможность видеть, куда можно пойти. Открытые горизонты (prospects) стимулируют любопытство, создают ощущение свободы и вовлечённости.
Таким образом, topology хронотопа — это структура открытости, протяжённости, созерцательной навигации.
Топография: квесты, иконки, управление вниманием
Однако в open world есть и другое измерение — структурированное. Игровой мир заполняется иконками, заданиями, сюжетными маркерами. Они создают «затянутую» сетку, задающую траектории, приоритеты и последовательность действия.
Боннер называет это «hardened segmentation» — закостеневшей сегментацией, которая структурирует поведение игрока. Тут пространство уже не «гладкое», а «полосатое» (striated): оно направляет, сдерживает, предлагает систему отсчёта. Именно так работает, например, карта в Assassin’s Creed, где каждая зона заполнена значками.
Таким образом, topography хронотопа — это логика управления вниманием, эпизодическое время, структура миссий и подзадач.
Ceaseless vs Episodic Time
Далее Боннер использует категории, предложенные Софи Баргес Роллинс (Sophie Bargues Rollins), исследовавшей хронотоп видеоигр через призму текстов типа texte fleuve (буквально — «текучий текст», например, «В поисках утраченного времени» Пруста):
Игры вроде Far Cry или Red Dead Redemption 2 постоянно балансируют между этими двумя режимами времени. Игрок может блуждать по миру часами, ничего не делая, — это хронотоп ceaseless time. А может выполнять квесты один за другим — и тогда хронотоп становится episodic.
Идея Боннера: open world-хронотоп — это не просто структура пространства, а система ритмизации восприятия. Он основан на чередовании свободного, гладкого исследования и целенаправленного, структурированного действия.
Хронотоп по Бахтину
Боннер заимствует понятие хронотопа у советского философа и литературоведа Михаила Бахтина, который вводит его для анализа пространственно-временных структур в литературных жанрах. У Бахтина хронотоп — это не просто сцена, где разворачивается действие, а форма организации времени и пространства, определяющая структуру самого мира произведения.
Применение хронотопа к open world
Боннер адаптирует эту идею к видеоиграм и особенно к open world. Он предлагает трактовать хронотоп не только как «фоновое» пространство, но как активную среду, структурирующую поведение игрока. Он выдвигает тезис: в open world-играх пространство становится даже важнее времени — через его структуру игрок переживает мир.
Чтобы охарактеризовать хронотоп открытого мира, Боннер делит его на два взаимосвязанных измерения:
- Топология (topology) — «гладкое» пространство (smooth space), связанное с исследованием, навигацией, созерцанием;
- Топография (topography) — «полосатое» пространство (striated space), связанное с заданиями, структурой, системой маркеров и управлением.
Эти термины он берёт из книги Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Тысяча плато» (Mille plateaux), где «гладкое» пространство — это непрерывное, изменчивое, текучее поле, а «полосатое» — структурированное, метризованное, управляемое.
Топология: горизонт, исследование и перспектива
Пример: в Horizon Zero Dawn игрок может в какой-то момент случайно заметить башню далеко в горах — она не подсвечена маркером, но притягивает внимание. Игрок может отправиться к ней по собственному желанию — и это станет не квестом, а актом перспективного исследования. Такой путь — от точки к точке, от горизонта к горизонту — Боннер называет «prospect pacing» (пошаговая перспектива).
Он опирается на работы Джей Апплтона (эколог и эстетик), который считал, что ключевую роль в восприятии ландшафта играет возможность видеть, куда можно пойти. Открытые горизонты (prospects) стимулируют любопытство, создают ощущение свободы и вовлечённости.
Таким образом, topology хронотопа — это структура открытости, протяжённости, созерцательной навигации.
Топография: квесты, иконки, управление вниманием
Однако в open world есть и другое измерение — структурированное. Игровой мир заполняется иконками, заданиями, сюжетными маркерами. Они создают «затянутую» сетку, задающую траектории, приоритеты и последовательность действия.
Боннер называет это «hardened segmentation» — закостеневшей сегментацией, которая структурирует поведение игрока. Тут пространство уже не «гладкое», а «полосатое» (striated): оно направляет, сдерживает, предлагает систему отсчёта. Именно так работает, например, карта в Assassin’s Creed, где каждая зона заполнена значками.
Таким образом, topography хронотопа — это логика управления вниманием, эпизодическое время, структура миссий и подзадач.
Ceaseless vs Episodic Time
Далее Боннер использует категории, предложенные Софи Баргес Роллинс (Sophie Bargues Rollins), исследовавшей хронотоп видеоигр через призму текстов типа texte fleuve (буквально — «текучий текст», например, «В поисках утраченного времени» Пруста):
- Ceaseless time (непрерывное время) — переживание мира как открытого, неспешного, «вечного»;
- Episodic time (эпизодическое время) — разметка сюжета, миссий, моментов действия.
Игры вроде Far Cry или Red Dead Redemption 2 постоянно балансируют между этими двумя режимами времени. Игрок может блуждать по миру часами, ничего не делая, — это хронотоп ceaseless time. А может выполнять квесты один за другим — и тогда хронотоп становится episodic.
Идея Боннера: open world-хронотоп — это не просто структура пространства, а система ритмизации восприятия. Он основан на чередовании свободного, гладкого исследования и целенаправленного, структурированного действия.
Идеологические импликации хронотопа open world
Кто управляет миром?
Одна из ключевых тем этой части — как в открытых мирах распределяется власть между игроком и разработчиком. Казалось бы, игрок обладает свободой — он может идти куда угодно, действовать по своему усмотрению. Однако, по мнению Боннера, это лишь иллюзия полной свободы: за ширмой открытого мира скрывается архитектура контроля.
Для объяснения этого Боннер обращается к концепции хронотопа в духе философии М. Бахтина, но дополняет её идеями Жиля Делёза и Феликса Гваттари, в частности — концепцией гладкого (smooth) и полосатого (striated) пространства. Эти два режима постоянно сосуществуют в open world, создавая двойственность: открытость и принуждение.
Пример: карта как инструмент власти
Механизмы управления вниманием игрока — это прежде всего карта (map interface), заполненная иконками, маршрутами, POI (points of interest), метками заданий. С точки зрения Боннера, карта — это способ «шифровки» мира, превращающий его из топологического (связанного с движением, восприятием и свободой) в топографический (структурированный, считываемый, управляемый).
Это навязывает определённый способ взаимодействия: мир перестаёт быть местом загадки, становясь системой задач.
Таким образом, игроку предлагается не столько «исследовать» мир, сколько «вычеркивать» его кусками. Такой подход Боннер называет геймифицированной навигацией по алгоритму.
Делёз и Гваттари: контроль через повторяемость
Далее Боннер привлекает понятие «жёсткой сегментации» (hardened segmentation) из «Тысячи плато» Делёза и Гваттари. Речь идёт о способе структурирования мира, в котором поведение субъекта управляется заранее встроенными режимами — здесь это шаблоны миссий, циклы игрового процесса, структуры награды.
Пример: система «вышек» в Far Cry или Assassin’s Creed — однотипные структуры, разбросанные по карте. Игроку предлагается «освободить» их одну за другой, каждая представляет собой чуть изменённый вариант предыдущей. Это и есть «геймифицированная» топография — структура, основанная на повторении и ритме.
Свобода как симуляция
Хотя игры дают игроку выбор — куда пойти, с кем поговорить, что выполнять — этот выбор, по мнению Боннера, заранее предопределён системой координат, заранее вписанной в карту. Игрок «свободен» в пределах дизайна, но этот дизайн, как структура власти, устроен так, чтобы направлять, подталкивать, соблазнять.
Концепция «prospect pacing» — о которой шла речь ранее — на этом этапе переосмысляется. Да, игрок может идти к башне просто потому что видит её на горизонте, но:
Литературное сравнение
Боннер возвращается к Бахтину, который писал, что хронотоп приключенческого романа не зависит от конкретных мест — событие может случиться где угодно. В open world всё наоборот: именно место, вид, атмосфера, рельеф и биом создают ценность. Место приобретает автономное значение. Это подчёркивает эстетическую мощь топологии — открытого, незаданного, перспективного пространства.
Однако эта открытость почти всегда встроена в топографию. Таким образом, хронотоп open world — это гибрид, в котором:
Идеология в хронотопе
Боннер утверждает, что современные open world-игры производят и поддерживают идеологию псевдосвободы. Это выражается в дизайне, механиках, системе наград, нарративной структуре. Игрок чувствует себя свободным, но эта свобода тщательно калибрована: мир предлагает ему множество путей, которые все ведут туда, куда нужно разработчику.
Это сродни современным формам управления в «геймифицированных» обществах, где субъекты не подавляются, а направляются, увлекаются, стимулируются. Open world — модель такого мира.
Open world-хронотоп — это форма архитектуры, создающая иллюзию открытости, но структурированная по принципам контроля и ритма. В ней «пространственная свобода» не отменяет власти, а становится её формой.
Кто управляет миром?
Одна из ключевых тем этой части — как в открытых мирах распределяется власть между игроком и разработчиком. Казалось бы, игрок обладает свободой — он может идти куда угодно, действовать по своему усмотрению. Однако, по мнению Боннера, это лишь иллюзия полной свободы: за ширмой открытого мира скрывается архитектура контроля.
Для объяснения этого Боннер обращается к концепции хронотопа в духе философии М. Бахтина, но дополняет её идеями Жиля Делёза и Феликса Гваттари, в частности — концепцией гладкого (smooth) и полосатого (striated) пространства. Эти два режима постоянно сосуществуют в open world, создавая двойственность: открытость и принуждение.
Пример: карта как инструмент власти
Механизмы управления вниманием игрока — это прежде всего карта (map interface), заполненная иконками, маршрутами, POI (points of interest), метками заданий. С точки зрения Боннера, карта — это способ «шифровки» мира, превращающий его из топологического (связанного с движением, восприятием и свободой) в топографический (структурированный, считываемый, управляемый).
Это навязывает определённый способ взаимодействия: мир перестаёт быть местом загадки, становясь системой задач.
Таким образом, игроку предлагается не столько «исследовать» мир, сколько «вычеркивать» его кусками. Такой подход Боннер называет геймифицированной навигацией по алгоритму.
Делёз и Гваттари: контроль через повторяемость
Далее Боннер привлекает понятие «жёсткой сегментации» (hardened segmentation) из «Тысячи плато» Делёза и Гваттари. Речь идёт о способе структурирования мира, в котором поведение субъекта управляется заранее встроенными режимами — здесь это шаблоны миссий, циклы игрового процесса, структуры награды.
Пример: система «вышек» в Far Cry или Assassin’s Creed — однотипные структуры, разбросанные по карте. Игроку предлагается «освободить» их одну за другой, каждая представляет собой чуть изменённый вариант предыдущей. Это и есть «геймифицированная» топография — структура, основанная на повторении и ритме.
Свобода как симуляция
Хотя игры дают игроку выбор — куда пойти, с кем поговорить, что выполнять — этот выбор, по мнению Боннера, заранее предопределён системой координат, заранее вписанной в карту. Игрок «свободен» в пределах дизайна, но этот дизайн, как структура власти, устроен так, чтобы направлять, подталкивать, соблазнять.
Концепция «prospect pacing» — о которой шла речь ранее — на этом этапе переосмысляется. Да, игрок может идти к башне просто потому что видит её на горизонте, но:
- сам горизонт был спроектирован разработчиком;
- сама башня — целевая точка, привлекающая внимание;
- путь к ней может быть «якобы открытым», но он уже встроен в архитектуру мира.
Литературное сравнение
Боннер возвращается к Бахтину, который писал, что хронотоп приключенческого романа не зависит от конкретных мест — событие может случиться где угодно. В open world всё наоборот: именно место, вид, атмосфера, рельеф и биом создают ценность. Место приобретает автономное значение. Это подчёркивает эстетическую мощь топологии — открытого, незаданного, перспективного пространства.
Однако эта открытость почти всегда встроена в топографию. Таким образом, хронотоп open world — это гибрид, в котором:
- открытость и структурированность переплетены;
- свобода игрока существует в пределах тщательно выстроенной системы;
- идеология выражается не напрямую, а через структуру восприятия мира.
Идеология в хронотопе
Боннер утверждает, что современные open world-игры производят и поддерживают идеологию псевдосвободы. Это выражается в дизайне, механиках, системе наград, нарративной структуре. Игрок чувствует себя свободным, но эта свобода тщательно калибрована: мир предлагает ему множество путей, которые все ведут туда, куда нужно разработчику.
Это сродни современным формам управления в «геймифицированных» обществах, где субъекты не подавляются, а направляются, увлекаются, стимулируются. Open world — модель такого мира.
Open world-хронотоп — это форма архитектуры, создающая иллюзию открытости, но структурированная по принципам контроля и ритма. В ней «пространственная свобода» не отменяет власти, а становится её формой.
Итоги и направления дальнейшего анализа
Архитектоника как ключ к пониманию игр
Марк Боннер подводит итог своей теоретической рамке: он предлагает рассматривать open world не как простую совокупность элементов, а как архитектурную структуру — архитектонику. Под этим термином он понимает пространственную организацию игры как системы, которая не только задаёт способы передвижения, но и формирует мышление, восприятие, поведение игрока.
Игровые миры — это не просто фоны для действия. Они структурируют сам опыт и вписывают игрока в особую логику времени и пространства.
Концепт «мироподобного зала»
Он возвращается к своей основной метафоре — «world-shaped hall», вдохновлённой размышлениями философа Петера Слотердайка. В этой модели игровой мир выступает как гигантское внутреннее пространство, имитирующее внешнюю бесконечность. Такое пространство:
Но на самом деле оно тщательно спроектировано — как стеклянная оболочка Хрустального дворца. Пространство становится тотальностью, охватывающей игрока. Оно заменяет реальность — но при этом обещает свободу, исследование, погружение.
Эта архитектура тотальности порождает иллюзию свободы через управляемую открытость.
Вывод: хронотоп open world как форма идеологии
В самой структуре хронотопа заключена идеология. Боннер подчёркивает: речь идёт не о «политических посланиях» в сюжетах игр, а о более глубинной, пространственно-временной идеологии:
Таким образом, хронотоп open world выступает как модель современного цифрового общества: общество, где свобода — это интерфейс, а контроль — это архитектура.
Перспективы для исследований
Боннер завершает главу предложением к дальнейшим исследованиям:
Он призывает исследователей отказаться от поверхностных подходов и рассматривать игры как сложные пространственно-временные системы, действующие как культурные и идеологические формы.
Общий итог всей главы
Марка Боннер строит мощную концептуальную модель, в которой:
--
Источник: Bonner, Marc. “The World-Shaped Hall: On the Architectonics of the Open World Skybox and the Ideological Implications of the Open World Chronotope.” In Game | World | Architectonics: Transdisciplinary Approaches on Structures and Mechanics, Levels and Spaces, Aesthetics and Perception, ed. Marc Bonner, Heidelberg University Publishing, 2021
Архитектоника как ключ к пониманию игр
Марк Боннер подводит итог своей теоретической рамке: он предлагает рассматривать open world не как простую совокупность элементов, а как архитектурную структуру — архитектонику. Под этим термином он понимает пространственную организацию игры как системы, которая не только задаёт способы передвижения, но и формирует мышление, восприятие, поведение игрока.
Игровые миры — это не просто фоны для действия. Они структурируют сам опыт и вписывают игрока в особую логику времени и пространства.
Концепт «мироподобного зала»
Он возвращается к своей основной метафоре — «world-shaped hall», вдохновлённой размышлениями философа Петера Слотердайка. В этой модели игровой мир выступает как гигантское внутреннее пространство, имитирующее внешнюю бесконечность. Такое пространство:
- собрано из фрагментов реального и вымышленного мира;
- формирует единое переживание;
- создаёт иллюзию «естественности» и «вселенской открытости».
Но на самом деле оно тщательно спроектировано — как стеклянная оболочка Хрустального дворца. Пространство становится тотальностью, охватывающей игрока. Оно заменяет реальность — но при этом обещает свободу, исследование, погружение.
Эта архитектура тотальности порождает иллюзию свободы через управляемую открытость.
Вывод: хронотоп open world как форма идеологии
В самой структуре хронотопа заключена идеология. Боннер подчёркивает: речь идёт не о «политических посланиях» в сюжетах игр, а о более глубинной, пространственно-временной идеологии:
- Игрок вовлекается в мир, который предлагает свободу, но управляет его вниманием;
- Мир структурирован по заранее заданным паттернам;
- Исследование и навигация — это не бунт против системы, а следование по её траекториям.
Таким образом, хронотоп open world выступает как модель современного цифрового общества: общество, где свобода — это интерфейс, а контроль — это архитектура.
Перспективы для исследований
Боннер завершает главу предложением к дальнейшим исследованиям:
- Сравнение хронотопов разных жанров (например, платформеры, метроидвании, симуляторы);
- Анализ хронотопов в связи с телесностью игрока и интерфейсом;
- Исследование небинарных пространств — между smooth и striated, между free roam и структурированной игрой;
- Обращение к неевропейским представлениям о пространстве и времени в играх.
Он призывает исследователей отказаться от поверхностных подходов и рассматривать игры как сложные пространственно-временные системы, действующие как культурные и идеологические формы.
Общий итог всей главы
Марка Боннер строит мощную концептуальную модель, в которой:
- скайбокс — не просто графика, а метафора идеологического горизонта;
- хронотоп open world — не просто дизайн уровня, а форма контроля над вниманием и переживанием;
- open world-игра — не просто «мир», а спроектированная архитектура тотальности, симулирующая свободу, но работающая как система власти.
--
Источник: Bonner, Marc. “The World-Shaped Hall: On the Architectonics of the Open World Skybox and the Ideological Implications of the Open World Chronotope.” In Game | World | Architectonics: Transdisciplinary Approaches on Structures and Mechanics, Levels and Spaces, Aesthetics and Perception, ed. Marc Bonner, Heidelberg University Publishing, 2021