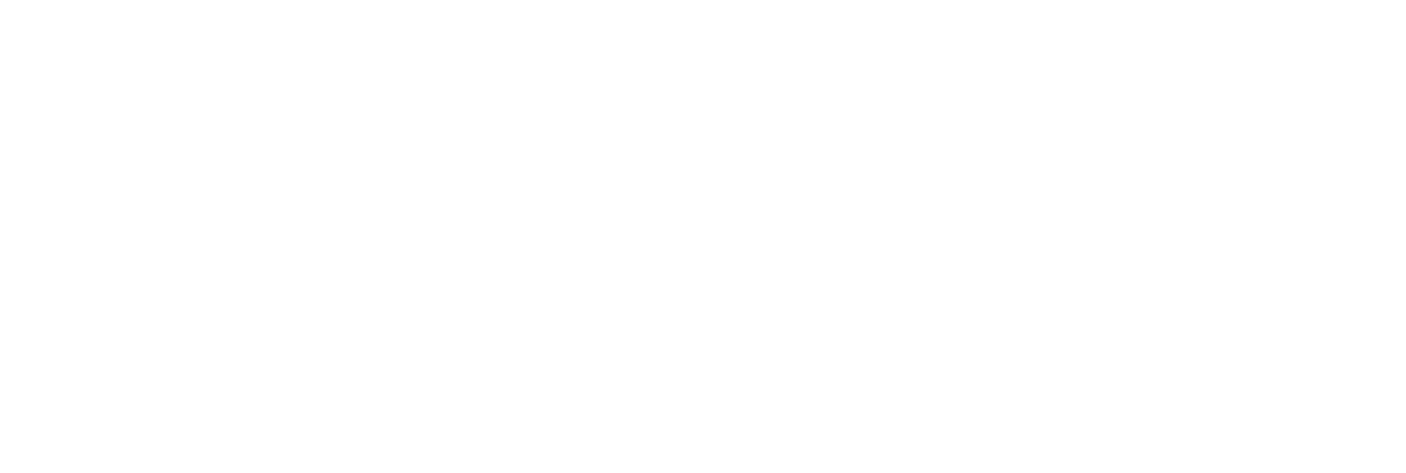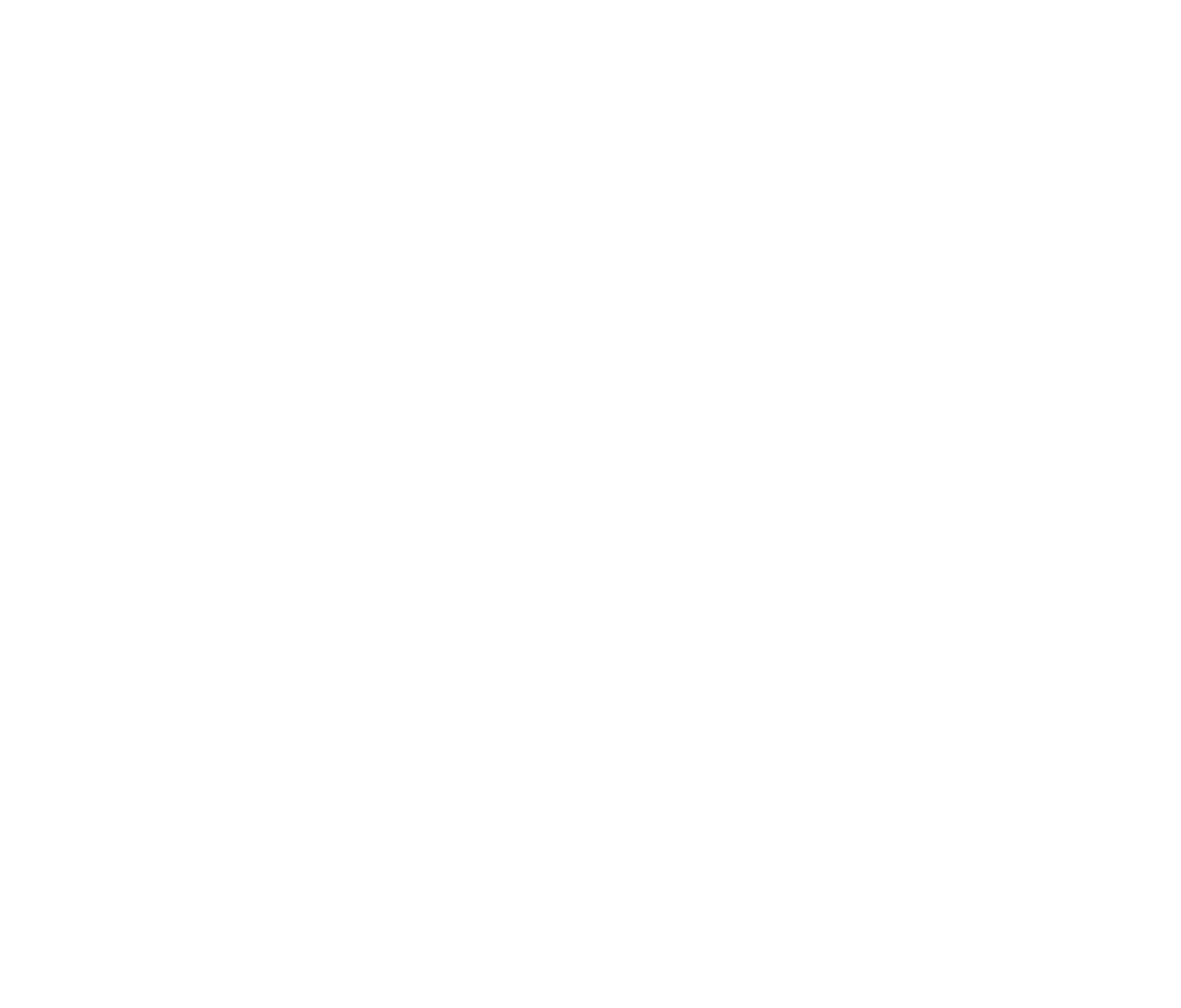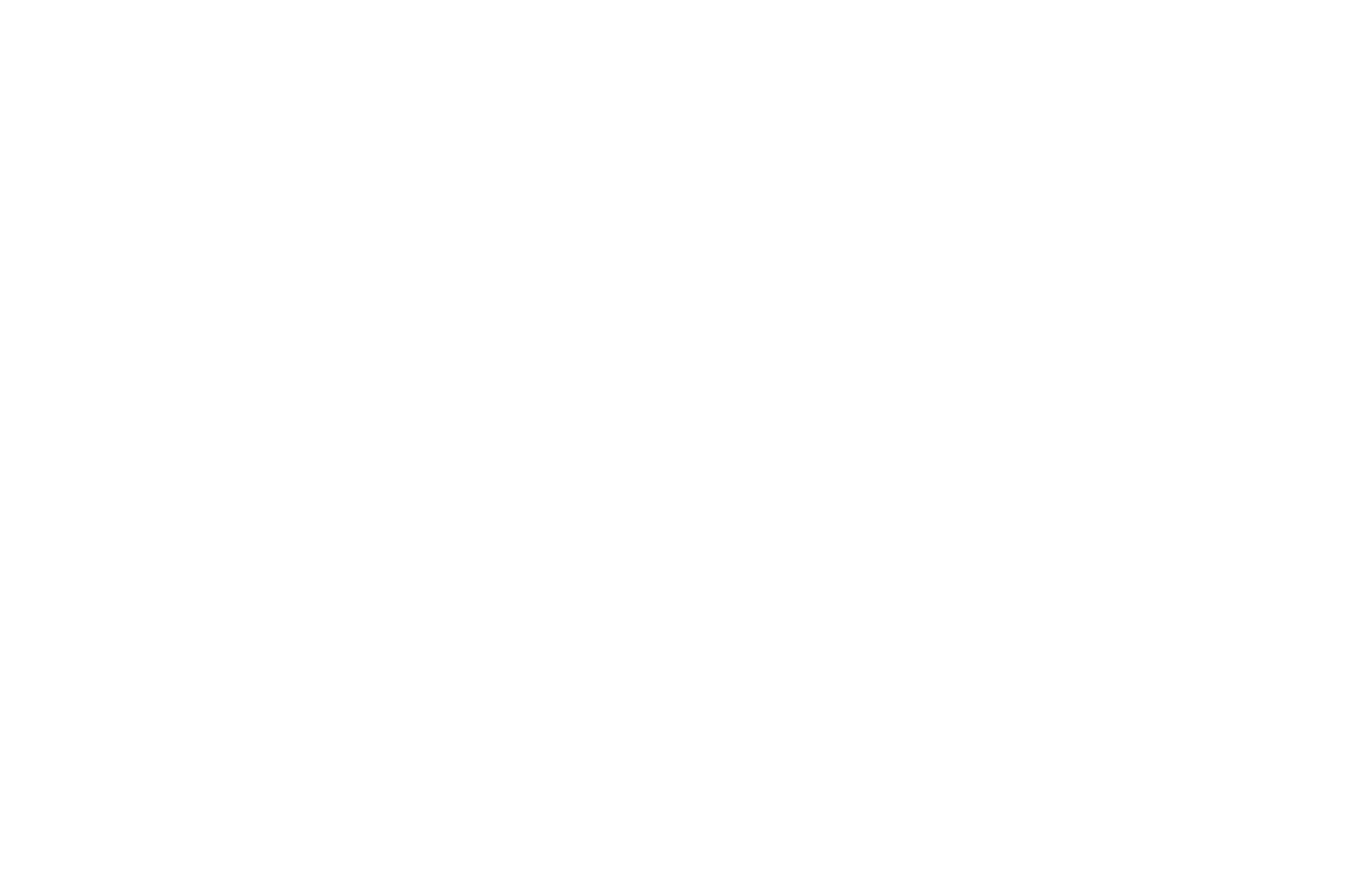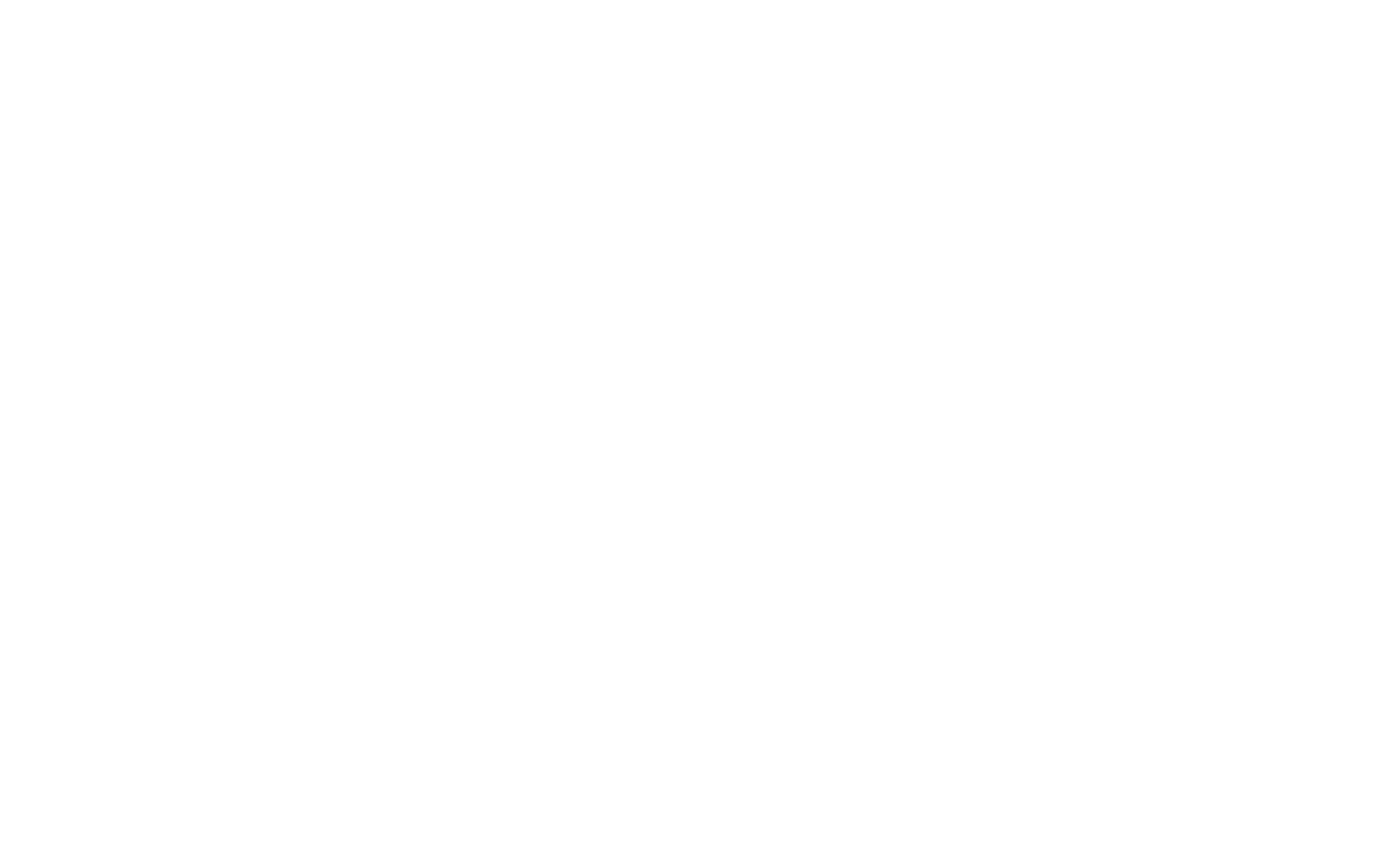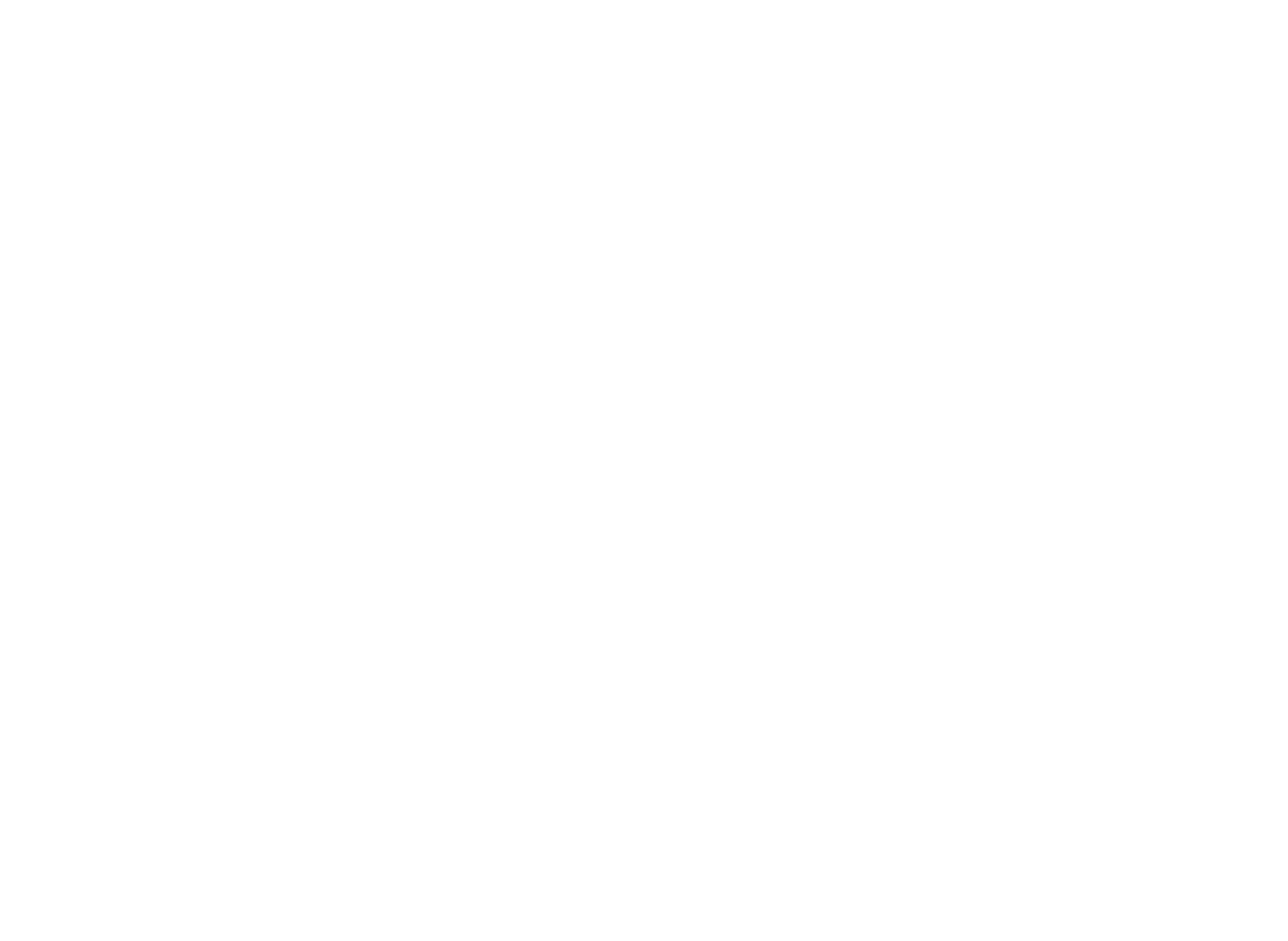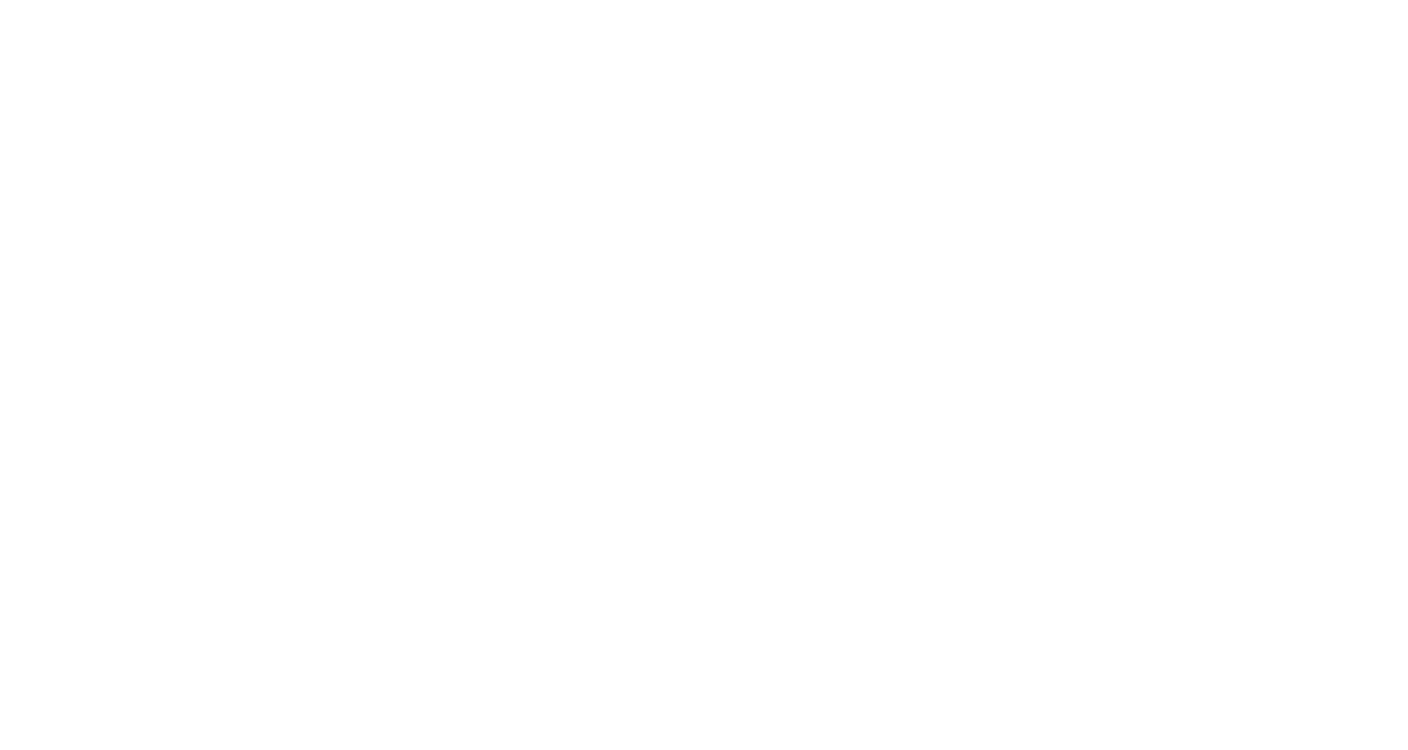#архитектура
Конец архитектуры: парки развлечений, видеоигры и архитектурная среда в кинематографическом режиме
Пересказ-перевод статьи о том, как технологии кино и анимации сформировали логику тематических парков и видеоигр, превратив архитектуру в часть иммерсивных историй.
Источник: Dave Gottwald, Greg Turner-Rahman, The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode. In: The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 41–60. Доступно онлайн: https://doi.org/10.18848/2154-8587/CGP/v10i02/41-60
В середине XX века кино перестало быть только экранным искусством и вышло в реальный мир — в парки развлечений, городские пространства и, позже, в цифровые миры игр. Уолт Дисней, многоплоскостная камера, сторибординг и логика монтажа проложили путь от «Пиратов Карибского моря» до Grand Theft Auto V. Американские исследователи Дейв Готтвальд и Грег Тёрнер-Рахман называют этот процесс «подчинением кинематографу» — и в своей статье прослеживают, как кинематографическая грамматика шаг за шагом вытеснила архитектуру из центральной роли в проектировании среды.
Авторы, американские исследователи Дейв Готтвальд и Грег Тёрнер‑Рахман, открывают статью двумя тезисами‑эпиграфами: американский историк культуры и географ Ричард Франкавилья говорит, что «движущиеся изображения» задали наши ожидания от места; американский историк и кинокритик Нил Габлер утверждает, что значительная часть экономики теперь «строит съёмочные площадки» нашей повседневности. Эти цитаты задают рамку: кино и видео меняют то, как мы воспринимаем и проектируем среду.
Готтвальд и Тёрнер‑Рахман формулируют главный тезис: технологии и грамматика кино XX века «перестроили» ожидания от построенной среды. Мы живём в множестве физических и виртуальных пространств, которые не создавались архитекторами. Привычная роль архитектора ослабляется из‑за процесса, который авторы называют «подчинением кинематографу». Это ведёт к преобладанию нарративного, иммерсивного взгляда на пространство и описывается ими формулой «построенная среда в кинематографическом режиме».
Далее авторы уточняют: тематический дизайн — не «архитектура развлечений» и не «архитектура успокоения». Это междисциплинарная практика, независимая от архитектуры. Задача статьи — дать исторический контекст и аналитическую рамку, показать общий «кинематографический родословный» ряд для физических тематических пространств и виртуальных миров игр, а также связать эту линию с открытыми мирами и геймификацией сегодняшнего дня.
Готтвальд и Тёрнер‑Рахман формулируют главный тезис: технологии и грамматика кино XX века «перестроили» ожидания от построенной среды. Мы живём в множестве физических и виртуальных пространств, которые не создавались архитекторами. Привычная роль архитектора ослабляется из‑за процесса, который авторы называют «подчинением кинематографу». Это ведёт к преобладанию нарративного, иммерсивного взгляда на пространство и описывается ими формулой «построенная среда в кинематографическом режиме».
Далее авторы уточняют: тематический дизайн — не «архитектура развлечений» и не «архитектура успокоения». Это междисциплинарная практика, независимая от архитектуры. Задача статьи — дать исторический контекст и аналитическую рамку, показать общий «кинематографический родословный» ряд для физических тематических пространств и виртуальных миров игр, а также связать эту линию с открытыми мирами и геймификацией сегодняшнего дня.
Часть первая
Авторы отмечают, что с появлением синхронного звука и развитием движения камеры кино заново «собрало» время и пространство. Опыт просмотра стал динамичнее и ближе к кинетике модернистского города. Массовое хождение в кино в 1930‑е сформировало устойчивую зрительскую грамотность, а телевидение в послевоенные годы перенесло кинематографический нарратив прямо в дом, превратив его в фундамент визуальной культуры середины века.
К 1930‑м в анимации оформились три ключевых опоры будущего тематического дизайна: художественная постановка (art direction), сторибординг и многоплоскостная камера. Телевидение усилило «вездесущность» движущегося изображения и приблизило его к повседневности. На этом фоне анимация дала более ранний и полный опыт иммерсии: она обеспечила «мир образов» с тотальным контролем среды и эффекта.
Авторы подчеркивают: именно эти три инструмента — монтажная логика, визуальное планирование и технологическая симуляция глубины — сложились в 1950–1960‑е в практике тематического дизайна, став платформой для «подчинения кинематографу» уже на уровне материального пространства.
Авторы отмечают, что с появлением синхронного звука и развитием движения камеры кино заново «собрало» время и пространство. Опыт просмотра стал динамичнее и ближе к кинетике модернистского города. Массовое хождение в кино в 1930‑е сформировало устойчивую зрительскую грамотность, а телевидение в послевоенные годы перенесло кинематографический нарратив прямо в дом, превратив его в фундамент визуальной культуры середины века.
К 1930‑м в анимации оформились три ключевых опоры будущего тематического дизайна: художественная постановка (art direction), сторибординг и многоплоскостная камера. Телевидение усилило «вездесущность» движущегося изображения и приблизило его к повседневности. На этом фоне анимация дала более ранний и полный опыт иммерсии: она обеспечила «мир образов» с тотальным контролем среды и эффекта.
Авторы подчеркивают: именно эти три инструмента — монтажная логика, визуальное планирование и технологическая симуляция глубины — сложились в 1950–1960‑е в практике тематического дизайна, став платформой для «подчинения кинематографу» уже на уровне материального пространства.
От сцены к декорации
Авторы проводят различие между театральной сценографией и кинодекорациями. В 1920–1930‑е эти практики расходятся: под давлением логистики и экономики кино уходит от плоских расписных задников к трёхмерным «сетам», и в этой области сильнее всего заявляют о себе специалисты с архитектурным образованием. Испанский историк искусства Хуан Антонио Рамирес выделяет свойства, которые отличают кинодекор от архитектуры: фрагментарность, изменяемость масштаба и пропорций, неортогональность, гиперболичность, мобильность и быструю сборку/разборку. Американские киноведы Чарльз Афрон и Мирелла Джона Афрон развивают эту мысль.
Авторы напоминают и об аргументах итальянских марксистских критиков Бальдо Бандини и Глауко Вьядзи: театральная сцена остаётся фиксированной, а кинодекор должен подстраиваться под ритмы пространства и времени в движении. Камера «зажимает» актёров не на сцене, а «внутри» среды, которую теперь конструирует художник‑постановщик. Это и есть шаг от «сцены» к «сетам» — от демонстрации к проживанию пространства.
Дальше, замечают авторы, анимация даёт индустрии инструмент управления этой средой — сториборд. Он становится «визуальным сценарием»: задаёт географию, непрерывность действия, схему переходов, темп и атмосферу. Сториборд делает производство системным и эластичным: последовательности можно перекраивать и собирать заново. Этот инструмент быстро мигрирует в игровое кино и становится стандартом крупных постановок.
Наконец, многоплоскостная камера превращает рисованную сцену в технологически симулированный «мир» с глубиной, параллаксом и движением точки зрения. Так у персонажей появляется «среда обитания», а у зрителя — опыт перемещения внутри неё. Это прямой предшественник той логики, которая позже оформится в тематическом парке и в игровых движках.
Авторы проводят различие между театральной сценографией и кинодекорациями. В 1920–1930‑е эти практики расходятся: под давлением логистики и экономики кино уходит от плоских расписных задников к трёхмерным «сетам», и в этой области сильнее всего заявляют о себе специалисты с архитектурным образованием. Испанский историк искусства Хуан Антонио Рамирес выделяет свойства, которые отличают кинодекор от архитектуры: фрагментарность, изменяемость масштаба и пропорций, неортогональность, гиперболичность, мобильность и быструю сборку/разборку. Американские киноведы Чарльз Афрон и Мирелла Джона Афрон развивают эту мысль.
Авторы напоминают и об аргументах итальянских марксистских критиков Бальдо Бандини и Глауко Вьядзи: театральная сцена остаётся фиксированной, а кинодекор должен подстраиваться под ритмы пространства и времени в движении. Камера «зажимает» актёров не на сцене, а «внутри» среды, которую теперь конструирует художник‑постановщик. Это и есть шаг от «сцены» к «сетам» — от демонстрации к проживанию пространства.
Дальше, замечают авторы, анимация даёт индустрии инструмент управления этой средой — сториборд. Он становится «визуальным сценарием»: задаёт географию, непрерывность действия, схему переходов, темп и атмосферу. Сториборд делает производство системным и эластичным: последовательности можно перекраивать и собирать заново. Этот инструмент быстро мигрирует в игровое кино и становится стандартом крупных постановок.
Наконец, многоплоскостная камера превращает рисованную сцену в технологически симулированный «мир» с глубиной, параллаксом и движением точки зрения. Так у персонажей появляется «среда обитания», а у зрителя — опыт перемещения внутри неё. Это прямой предшественник той логики, которая позже оформится в тематическом парке и в игровых движках.
Визуальный сценарий
Авторы напоминают, что режиссёр Жорж Мельес использовал рисунки для планирования, но именно в анимации оформилась полноценная практика сторибординга. Уолт Дисней приписывал идею аниматору Уэббу Смиту, который стал вывешивать рисунки в последовательности на доске, чтобы показать развитие действия. До этого использовались «эскизы сюжета» — отдельные картинки, передающие характер и эмоции, но не последовательное движение и структуру.
Сториборд объединил три элемента: географию (фоны и окружения, переходящие из кадра в кадр), непрерывность (динамика действия) и диаграмму (структура акта, сцены и переходы). Он оказался гибким и модульным — сцены можно было переставлять, менять ритм и атмосферу. Это превратило сториборд в «визуальный сценарий» — план, по которому можно было построить фильм целиком.
К началу 1930-х в студии Disney выделился отдельный сценарный отдел, и уже в 1933 году первый короткометражный фильм Three Little Pigs был целиком разработан по сторибордам. Эта практика быстро распространилась и на игровое кино, где к концу десятилетия сториборды стали стандартом для крупных проектов. По сути, они сделали возможным систематическое проектирование сложных пространств и последовательностей, что позже напрямую повлияло на дизайн парков и игровых миров.
Авторы напоминают, что режиссёр Жорж Мельес использовал рисунки для планирования, но именно в анимации оформилась полноценная практика сторибординга. Уолт Дисней приписывал идею аниматору Уэббу Смиту, который стал вывешивать рисунки в последовательности на доске, чтобы показать развитие действия. До этого использовались «эскизы сюжета» — отдельные картинки, передающие характер и эмоции, но не последовательное движение и структуру.
Сториборд объединил три элемента: географию (фоны и окружения, переходящие из кадра в кадр), непрерывность (динамика действия) и диаграмму (структура акта, сцены и переходы). Он оказался гибким и модульным — сцены можно было переставлять, менять ритм и атмосферу. Это превратило сториборд в «визуальный сценарий» — план, по которому можно было построить фильм целиком.
К началу 1930-х в студии Disney выделился отдельный сценарный отдел, и уже в 1933 году первый короткометражный фильм Three Little Pigs был целиком разработан по сторибордам. Эта практика быстро распространилась и на игровое кино, где к концу десятилетия сториборды стали стандартом для крупных проектов. По сути, они сделали возможным систематическое проектирование сложных пространств и последовательностей, что позже напрямую повлияло на дизайн парков и игровых миров.
Технологически симулированный мир
Изначально анимация была плоской и ориентированной на горизонтальное движение. Глубина поля и движение камеры были сильно ограничены. Уолт Дисней с самого начала стремился к «иллюзии жизни» — максимальной правдоподобности движения и среды. Эту цель он достигал через технологические новшества, главным из которых стала многоплоскостная камера.
Принцип был прост: несколько стеклянных пластин с разными планами — фоном, средним планом, передним планом и персонажами — снимались одновременно, создавая ощущение трёхмерного пространства. Движение этих пластин имитировало параллакс и меняло масштаб в зависимости от расстояния. Это позволяло камере «въезжать» в сцену и «перемещаться» внутри неё так же, как в игровом кино.
Первым крупным тестом технологии стал короткометражный фильм The Old Mill (1937), где важен был не сюжет, а передача ощущения обитаемой среды и её изменений. Благодаря многоплановости анимация получила сложные трекинговые проходы камеры, эффект воды, света и атмосферных явлений. Авторы подчёркивают: многоплоскостная камера фактически стала первой технологической симуляцией виртуального мира, где зритель не просто видит картинку, а «погружается» в пространство.
Изначально анимация была плоской и ориентированной на горизонтальное движение. Глубина поля и движение камеры были сильно ограничены. Уолт Дисней с самого начала стремился к «иллюзии жизни» — максимальной правдоподобности движения и среды. Эту цель он достигал через технологические новшества, главным из которых стала многоплоскостная камера.
Принцип был прост: несколько стеклянных пластин с разными планами — фоном, средним планом, передним планом и персонажами — снимались одновременно, создавая ощущение трёхмерного пространства. Движение этих пластин имитировало параллакс и меняло масштаб в зависимости от расстояния. Это позволяло камере «въезжать» в сцену и «перемещаться» внутри неё так же, как в игровом кино.
Первым крупным тестом технологии стал короткометражный фильм The Old Mill (1937), где важен был не сюжет, а передача ощущения обитаемой среды и её изменений. Благодаря многоплановости анимация получила сложные трекинговые проходы камеры, эффект воды, света и атмосферных явлений. Авторы подчёркивают: многоплоскостная камера фактически стала первой технологической симуляцией виртуального мира, где зритель не просто видит картинку, а «погружается» в пространство.
Диснейленд как трёхмерный сториборд
По мнению авторов, тематический дизайн как практика родился с открытием Disneyland в 1955 году — первого по-настоящему целостного тематического пространства. Важный момент: парк был спроектирован без участия архитекторов. Дисней сначала пригласил фирму Pereira and Luckman, но остался недоволен, уволил их и собрал команду из художников-постановщиков и аниматоров — в том числе людей с архитектурным образованием, но без опыта традиционного проектирования.
Вместо чертежей Дисней предпочитал макеты и рисунки, а планирование парка шло как планирование фильма: сначала концепт-арт, затем сториборды с последовательностью сцен. Каждая «земля» парка проектировалась как отдельная сюжетная линия, а аттракционы внутри — как сцены в этой линии. Переходы между «землями» строились по принципу «трёхмерных крест-растворов» — постепенной смены материалов, цветов, растительности, чтобы зритель не испытывал резкого «разрыва кадра».
Авторы отмечают, что особое место занимают тёмные аттракционы (dark rides), где посетитель движется внутри последовательности сцен в точно заданном порядке — как персонаж в анимационном фильме, проходящий через слои многоплоскостной декорации. Именно здесь сторибординг напрямую превратился в архитектурную логику пространства, а парк стал трёхмерным кино, в котором зритель — главный герой.
По мнению авторов, тематический дизайн как практика родился с открытием Disneyland в 1955 году — первого по-настоящему целостного тематического пространства. Важный момент: парк был спроектирован без участия архитекторов. Дисней сначала пригласил фирму Pereira and Luckman, но остался недоволен, уволил их и собрал команду из художников-постановщиков и аниматоров — в том числе людей с архитектурным образованием, но без опыта традиционного проектирования.
Вместо чертежей Дисней предпочитал макеты и рисунки, а планирование парка шло как планирование фильма: сначала концепт-арт, затем сториборды с последовательностью сцен. Каждая «земля» парка проектировалась как отдельная сюжетная линия, а аттракционы внутри — как сцены в этой линии. Переходы между «землями» строились по принципу «трёхмерных крест-растворов» — постепенной смены материалов, цветов, растительности, чтобы зритель не испытывал резкого «разрыва кадра».
Авторы отмечают, что особое место занимают тёмные аттракционы (dark rides), где посетитель движется внутри последовательности сцен в точно заданном порядке — как персонаж в анимационном фильме, проходящий через слои многоплоскостной декорации. Именно здесь сторибординг напрямую превратился в архитектурную логику пространства, а парк стал трёхмерным кино, в котором зритель — главный герой.
Многоплоскостная камера как пространственная философия
Авторы считают, что вершина развития тёмного аттракциона в Диснейленде — это Pirates of the Caribbean (1967), последний проект, который Уолт Дисней курировал лично. Чаще всего о нём говорят в контексте технологических новшеств — аудио-аниматроников, но для Готтвальда и Тёрнера-Рахмана важнее другое: как здесь применена логика многоплоскостной камеры к физическому пространству.
В отличие от более ранних аттракционов, в Pirates нет плоских декораций — всё трёхмерно, а сцены различаются по масштабу: от тесных пещер до «открытого неба» с высоченными потолками. Переходы между сценами выполняются с помощью мостов и арок, под которыми проходят лодки. Эти элементы работают сразу на трёх уровнях: как сюжетная граница между «актами», как трёхмерный монтажный переход («крест-раствор» или «перекрестное растворение») и как технический способ «сгладить» разницу между скоростью движения лодки и динамикой действия в сценах.
Авторы сравнивают этот приём с кадром из Пиноккио (1940), где использовалась горизонтальная многоплоскостная камера: она позволила вести непрерывный проход через улицы итальянской деревни, проходя под арками и меняя планы так, что зритель ощущал реальное перемещение в пространстве. Скульптор Клод Коутс, работавший над Pirates, говорил, что принцип «пространства для действия» из анимации они буквально перенесли в аттракцион. Таким образом, многоплановость перестала быть просто съёмочным устройством и стал пространственной философией: проектирование движения зрителя внутри последовательности сцен, как внутри кадров фильма.
Авторы считают, что вершина развития тёмного аттракциона в Диснейленде — это Pirates of the Caribbean (1967), последний проект, который Уолт Дисней курировал лично. Чаще всего о нём говорят в контексте технологических новшеств — аудио-аниматроников, но для Готтвальда и Тёрнера-Рахмана важнее другое: как здесь применена логика многоплоскостной камеры к физическому пространству.
В отличие от более ранних аттракционов, в Pirates нет плоских декораций — всё трёхмерно, а сцены различаются по масштабу: от тесных пещер до «открытого неба» с высоченными потолками. Переходы между сценами выполняются с помощью мостов и арок, под которыми проходят лодки. Эти элементы работают сразу на трёх уровнях: как сюжетная граница между «актами», как трёхмерный монтажный переход («крест-раствор» или «перекрестное растворение») и как технический способ «сгладить» разницу между скоростью движения лодки и динамикой действия в сценах.
Авторы сравнивают этот приём с кадром из Пиноккио (1940), где использовалась горизонтальная многоплоскостная камера: она позволила вести непрерывный проход через улицы итальянской деревни, проходя под арками и меняя планы так, что зритель ощущал реальное перемещение в пространстве. Скульптор Клод Коутс, работавший над Pirates, говорил, что принцип «пространства для действия» из анимации они буквально перенесли в аттракцион. Таким образом, многоплановость перестала быть просто съёмочным устройством и стал пространственной философией: проектирование движения зрителя внутри последовательности сцен, как внутри кадров фильма.
«Пираты Карибского моря» как ключевой пример
Для авторов этот аттракцион — квинтэссенция подчинения кинематографу. Здесь среда — это не фон, а равноправный участник нарратива; зритель не наблюдает, а «проживает» историю в движении. Именно Pirates они называют прямым предшественником открытых миров видеоигр: и там, и здесь игрок/зритель получает полную иллюзию присутствия в обитаемом мире, построенном по законам кино.
Они привлекают и культурологический контекст: философ Умберто Эко называл Pirates и Haunted Mansion воплощением «философии Диснейленда», достижением «тотального театра», где иллюзия становится убедительнее реальности. Эко опирался на идею Андре Базена о «тотальном кино» — искусстве, которое стремится стереть границу между изображением и физическим опытом. Авторы видят в этом точку перехода: от анимационного и кинематографического опыта — к интерактивным виртуальным мирам.
Для авторов этот аттракцион — квинтэссенция подчинения кинематографу. Здесь среда — это не фон, а равноправный участник нарратива; зритель не наблюдает, а «проживает» историю в движении. Именно Pirates они называют прямым предшественником открытых миров видеоигр: и там, и здесь игрок/зритель получает полную иллюзию присутствия в обитаемом мире, построенном по законам кино.
Они привлекают и культурологический контекст: философ Умберто Эко называл Pirates и Haunted Mansion воплощением «философии Диснейленда», достижением «тотального театра», где иллюзия становится убедительнее реальности. Эко опирался на идею Андре Базена о «тотальном кино» — искусстве, которое стремится стереть границу между изображением и физическим опытом. Авторы видят в этом точку перехода: от анимационного и кинематографического опыта — к интерактивным виртуальным мирам.
Pirates of the Caribbean, по их мнению, создали ту когнитивную основу, которая позволила аудитории воспринимать игровые миры как естественное продолжение тематических пространств. Именно поэтому переход от «смотрения» фильмов к «игре» в открытых мирах оказался таким органичным — тематический дизайн уже приучил нас к пространствам, которые мыслятся как непрерывный поток сцен, переживаемых в режиме погружения.
Часть вторая
Миз-ан-имаж
Авторы переходят от тематических парков к видеоиграм и отмечают: развитие игровых миров идёт по схожему пути с анимацией — от плоских и абстрактных форм к глубокой, трёхмерной и детализированной среде. При этом иммерсия в играх зависит не только от графики, но и от социальных, средовых и игровых факторов.
В истории видеоигр ранние проекты вроде Pong (1972) представляли собой статичный экран и крайне ограниченное пространство. Вся среда подчинялась правилам игры и не предполагала исследования. Тем не менее разработчики с самого начала искали способы придать этим плоским мирам глубину. Например, в Spacewar! (1962) и аркадах с векторной графикой изображение рисовалось электронным лучом и позволяло имитировать трёхмерные формы в виде каркасных моделей.
Постепенно графика становилась сложнее: bitmap-изображения в Pac-Man (1980) или боковой скроллинг в Super Mario Bros. (1985) давали иллюзию движения сквозь пространство. Но эти миры оставались линейными и жёстко заданными геймплеем. Авторы описывают это как графический режим (graphical regime), в котором эстетика изображения и технологическая основа тесно связаны с игровыми механиками. Сами они используют термин миз-ан-имаж — общее технологическое и художественное решение, объединяющее графическое представление и взаимодействие игрока с пространством
Миз-ан-имаж
Авторы переходят от тематических парков к видеоиграм и отмечают: развитие игровых миров идёт по схожему пути с анимацией — от плоских и абстрактных форм к глубокой, трёхмерной и детализированной среде. При этом иммерсия в играх зависит не только от графики, но и от социальных, средовых и игровых факторов.
В истории видеоигр ранние проекты вроде Pong (1972) представляли собой статичный экран и крайне ограниченное пространство. Вся среда подчинялась правилам игры и не предполагала исследования. Тем не менее разработчики с самого начала искали способы придать этим плоским мирам глубину. Например, в Spacewar! (1962) и аркадах с векторной графикой изображение рисовалось электронным лучом и позволяло имитировать трёхмерные формы в виде каркасных моделей.
Постепенно графика становилась сложнее: bitmap-изображения в Pac-Man (1980) или боковой скроллинг в Super Mario Bros. (1985) давали иллюзию движения сквозь пространство. Но эти миры оставались линейными и жёстко заданными геймплеем. Авторы описывают это как графический режим (graphical regime), в котором эстетика изображения и технологическая основа тесно связаны с игровыми механиками. Сами они используют термин миз-ан-имаж — общее технологическое и художественное решение, объединяющее графическое представление и взаимодействие игрока с пространством
Полнота погружения: от навигации к манипуляции
Авторы отмечают, что ключевая трансформация видеоигр произошла, когда они перешли от простой навигации по пространству к возможности взаимодействовать с ним. Первые шаги в этом направлении сделал жанр шутеров от первого лица. Wolfenstein 3D (1992) предложил игроку перемещаться по лабиринтам от перспективы «глазами персонажа». Doom (1993) закрепил этот формат, а GoldenEye 007 (1997) вывел его на новый уровень: уровни проектировались по мотивам съёмочных площадок фильма, что придало виртуальным пространствам кинематографическую узнаваемость и разнообразие.
В GoldenEye авторы видят прямую параллель с тематическими парками: игрок не просто идёт по коридорам, а попадает в серию визуально и сюжетно насыщенных «сцен» — как посетитель Pirates of the Caribbean. Здесь возникла «полнота погружения» — среда, которую можно исследовать, где можно взаимодействовать с персонажами, а не только стрелять.
Следующий качественный скачок сделал Half-Life (1998). Разработчики отказались от привычных для того времени загрузочных экранов между уровнями. Вместо этого использовались экологические интерстиции — лифты, туннели, коридоры, которые одновременно были частью сюжета и служили моментами для подгрузки новой информации. Это напоминало монтажные приёмы Диснея, где переход между сценами скрыт внутри действия.
Half-Life 2 (2004) усилил эффект благодаря движку Source: реалистичные текстуры, физика, освещение и непрерывный нарратив сделали мир «живым». Игрок мог не только перемещаться, но и манипулировать объектами среды. Авторы сравнивают роль движка Source с многоплоскостной камерой в анимации: и то, и другое — инструмент для проектирования глубины, перспективы и движения внутри последовательных сцен.
Авторы отмечают, что ключевая трансформация видеоигр произошла, когда они перешли от простой навигации по пространству к возможности взаимодействовать с ним. Первые шаги в этом направлении сделал жанр шутеров от первого лица. Wolfenstein 3D (1992) предложил игроку перемещаться по лабиринтам от перспективы «глазами персонажа». Doom (1993) закрепил этот формат, а GoldenEye 007 (1997) вывел его на новый уровень: уровни проектировались по мотивам съёмочных площадок фильма, что придало виртуальным пространствам кинематографическую узнаваемость и разнообразие.
В GoldenEye авторы видят прямую параллель с тематическими парками: игрок не просто идёт по коридорам, а попадает в серию визуально и сюжетно насыщенных «сцен» — как посетитель Pirates of the Caribbean. Здесь возникла «полнота погружения» — среда, которую можно исследовать, где можно взаимодействовать с персонажами, а не только стрелять.
Следующий качественный скачок сделал Half-Life (1998). Разработчики отказались от привычных для того времени загрузочных экранов между уровнями. Вместо этого использовались экологические интерстиции — лифты, туннели, коридоры, которые одновременно были частью сюжета и служили моментами для подгрузки новой информации. Это напоминало монтажные приёмы Диснея, где переход между сценами скрыт внутри действия.
Half-Life 2 (2004) усилил эффект благодаря движку Source: реалистичные текстуры, физика, освещение и непрерывный нарратив сделали мир «живым». Игрок мог не только перемещаться, но и манипулировать объектами среды. Авторы сравнивают роль движка Source с многоплоскостной камерой в анимации: и то, и другое — инструмент для проектирования глубины, перспективы и движения внутри последовательных сцен.
Заключение
В финале статьи Дейв Готтвальд и Грег Тёрнер-Рахман возвращаются к главному тезису: сегодня мы живём в множестве физических и виртуальных пространств, которые не были созданы архитекторами и не подчиняются традиционной архитектурной логике. Их формирует подчинение кинематографу — проникновение технологий и грамматики движущегося изображения в проектирование среды.
Они выделяют два главных проявления этого процесса:
Далее авторы задаются вопросом: какой будет следующая стадия? Они предполагают два параллельных направления:
Авторы отмечают, что границы между архитектурой и игровым дизайном уже стираются: одни и те же инструменты — Unreal, Unity, Maya, Revit — используются для проектирования и виртуальных, и физических пространств. Это значит, что кинематографическое видение и желания пользователей становятся общей точкой для всех сред, а архитектура утрачивает изолированную роль и сливается с логикой кино и игр.
Они завершают мыслью цитатой Роберта Вентури: «Disney World ближе к тому, чего действительно хотят люди, чем что-либо, что когда-либо давали им архитекторы». По мнению авторов, эта «победа» движущегося изображения — и есть метафорический «конец архитектуры»: не исчезновение профессии, а её полная трансформация в рамках общей системы проектирования иммерсивных историй.
--
Источник: Dave Gottwald, Greg Turner-Rahman, The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode. In: The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 41–60. Доступно онлайн: https://doi.org/10.18848/2154-8587/CGP/v10i02/41-60
В финале статьи Дейв Готтвальд и Грег Тёрнер-Рахман возвращаются к главному тезису: сегодня мы живём в множестве физических и виртуальных пространств, которые не были созданы архитекторами и не подчиняются традиционной архитектурной логике. Их формирует подчинение кинематографу — проникновение технологий и грамматики движущегося изображения в проектирование среды.
Они выделяют два главных проявления этого процесса:
- Тематический парк с его тщательно проработанными, нарративно связанными, последовательными сценами.
- Открытый мир видеоигры, где тот же принцип погружения работает в цифровой среде, но с большей степенью интерактивности.
Далее авторы задаются вопросом: какой будет следующая стадия? Они предполагают два параллельных направления:
- Углублённая смешанная реальность — когда физическая среда будет дополняться цифровыми слоями и станет частью нашей визуальной и культурной грамотности.
- Дальнейшая геймификация повседневности — когда взаимодействие с реальным миром всё больше будет напоминать игровые механики, интегрированные с потоками данных в реальном времени.
Авторы отмечают, что границы между архитектурой и игровым дизайном уже стираются: одни и те же инструменты — Unreal, Unity, Maya, Revit — используются для проектирования и виртуальных, и физических пространств. Это значит, что кинематографическое видение и желания пользователей становятся общей точкой для всех сред, а архитектура утрачивает изолированную роль и сливается с логикой кино и игр.
Они завершают мыслью цитатой Роберта Вентури: «Disney World ближе к тому, чего действительно хотят люди, чем что-либо, что когда-либо давали им архитекторы». По мнению авторов, эта «победа» движущегося изображения — и есть метафорический «конец архитектуры»: не исчезновение профессии, а её полная трансформация в рамках общей системы проектирования иммерсивных историй.
--
Источник: Dave Gottwald, Greg Turner-Rahman, The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode. In: The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 41–60. Доступно онлайн: https://doi.org/10.18848/2154-8587/CGP/v10i02/41-60