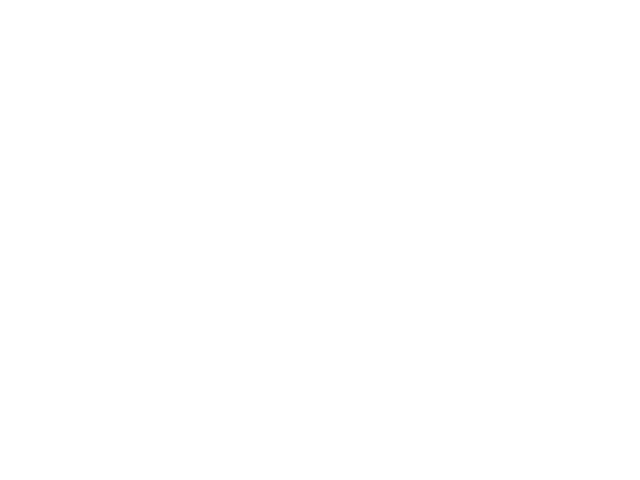#архитектура
Среди пикселей и мостовых
Пересказ-перевод статьи Кайо Тулио Олимпио Перейры о взаимном влиянии цифровых игр и общественных пространств, а также роли игрока как медиатора между виртуальным и реальным.
Источник: Caio Tulio Olimpio Pereira da Costa, Among Pixels and Pavement: Exploring the Feedback Loop Between Digital Games and Public Spaces. In: Acta Ludologica, vol. 8, no. 1, 2025, pp. 4–15.
Доступно онлайн: https://doi.org/10.34135/actaludologica.2025-8-1.4-15
Доступно онлайн: https://doi.org/10.34135/actaludologica.2025-8-1.4-15
Могут ли цифровые игры изменить восприятие городских улиц и площадей — и наоборот, может ли город вторгаться в игровую реальность? Бразильский исследователь Кайо Тулио да Коста предлагает рассматривать игру как способ проживания пространства: от SimCity до Pokémon GO, от цифровых монументов до инсталляций на фасадах зданий. В этой статье он исследует, как архитектура, цифровые интерфейсы и пользовательский опыт переплетаются, формируя новую городскую чувствительность, в которой Homo ludens одновременно и играет, и обживает мир.
Введение
Во введении статьи «Among Pixels and Pavement» автор — бразильский исследователь Кайо Тулио Олимпио Перейра да Коста — начинает с наблюдения: игра пронизывает современную культуру даже тогда, когда люди вроде бы сознательно дистанцируются от неё. Он обращает внимание на многочисленные выражения, в которых «игра» фигурирует как метафора — от «игры слов» до «политических игр» и «игры теней». Это, по мнению да Косты, указывает на то, что игра — не просто форма досуга, а фундаментальный культурный механизм.
Опираясь на идеи нидерландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги, автор напоминает: игра — это более древнее и универсальное явление, чем сама культура. Хёйзинга в работе «Homo Ludens» утверждал, что человек должен пониматься не только как Homo sapiens, но и как Homo ludens — играющее существо, которое не просто живёт, но и постоянно создаёт напряжения, интерпретирует и переосмысляет окружающий мир через игровые действия.
Да Коста отмечает, что, согласно философу Джону Дьюи, каждый повседневный акт — это акт перевода, интерпретации и коммуникации. Исходя из этого, игра становится способом «жить иммерсивно», то есть глубоко вовлечённо, с эмоциональными и познавательными следствиями. В таком понимании игра — это не просто механизм ухода от реальности, а форма культурного опыта и его трансформации.
Цифровые игры, утверждает автор, представляют собой эволюцию этой логики: они создают тщательно смоделированные виртуальные миры, куда игрок погружается через нарратив и интерфейс. Американская исследовательница Джанет Мюррей называет это процессом иммерсии — вовлечённости в историю, которая ощущается как «возможная реальность». Игры создают ощущение достоверности, встраивая в свои сюжеты узнаваемые образы: например, собор Парижской Богоматери в Assassin’s Creed или мормонский храм в The Last of Us.
Однако, подчёркивает да Коста, эта логика работает в обе стороны: цифровые игры могут влиять и на реальные общественные пространства. Он приводит два примера: памятник игрокам EVE Online в Рейкьявике и проект Block by Block, в рамках которого пользователи Minecraft создают проекты городского благоустройства, впоследствии реализуемые в реальности.
Во всех этих процессах игрок выступает как медиатор между виртуальным и реальным, воспринимая тонкую грань между двумя мирами. С опорой на философию опыта Джона Дьюи, автор предлагает рассматривать субъективность игрока как ключевое звено в этом процессе обратной связи между цифровым и физическим пространством.
Завершая введение, автор уточняет концептуальные опоры своей статьи. Он интерпретирует иммерсию как не просто эффект технологии, а результат сформированного опыта, как индивидуального, так и коллективного. Он опирается на работы Мюррей, Дьюи и Анри Бергсона, подчёркивая: игра активирует эмоциональный, а не только когнитивный контакт с миром.
Опыт — ещё одна важная категория статьи. Вслед за философом Луи Кере автор понимает его как взаимодействие организма со средой, а не только как сенсорное восприятие или рациональное знание. Именно через опыт игрок преобразует игровую среду, а она — его. Это и есть механизм обратной связи, который автор далее будет иллюстрировать через подборку тематических кейсов.
Во введении статьи «Among Pixels and Pavement» автор — бразильский исследователь Кайо Тулио Олимпио Перейра да Коста — начинает с наблюдения: игра пронизывает современную культуру даже тогда, когда люди вроде бы сознательно дистанцируются от неё. Он обращает внимание на многочисленные выражения, в которых «игра» фигурирует как метафора — от «игры слов» до «политических игр» и «игры теней». Это, по мнению да Косты, указывает на то, что игра — не просто форма досуга, а фундаментальный культурный механизм.
Опираясь на идеи нидерландского историка и культуролога Йохана Хёйзинги, автор напоминает: игра — это более древнее и универсальное явление, чем сама культура. Хёйзинга в работе «Homo Ludens» утверждал, что человек должен пониматься не только как Homo sapiens, но и как Homo ludens — играющее существо, которое не просто живёт, но и постоянно создаёт напряжения, интерпретирует и переосмысляет окружающий мир через игровые действия.
Да Коста отмечает, что, согласно философу Джону Дьюи, каждый повседневный акт — это акт перевода, интерпретации и коммуникации. Исходя из этого, игра становится способом «жить иммерсивно», то есть глубоко вовлечённо, с эмоциональными и познавательными следствиями. В таком понимании игра — это не просто механизм ухода от реальности, а форма культурного опыта и его трансформации.
Цифровые игры, утверждает автор, представляют собой эволюцию этой логики: они создают тщательно смоделированные виртуальные миры, куда игрок погружается через нарратив и интерфейс. Американская исследовательница Джанет Мюррей называет это процессом иммерсии — вовлечённости в историю, которая ощущается как «возможная реальность». Игры создают ощущение достоверности, встраивая в свои сюжеты узнаваемые образы: например, собор Парижской Богоматери в Assassin’s Creed или мормонский храм в The Last of Us.
Однако, подчёркивает да Коста, эта логика работает в обе стороны: цифровые игры могут влиять и на реальные общественные пространства. Он приводит два примера: памятник игрокам EVE Online в Рейкьявике и проект Block by Block, в рамках которого пользователи Minecraft создают проекты городского благоустройства, впоследствии реализуемые в реальности.
Во всех этих процессах игрок выступает как медиатор между виртуальным и реальным, воспринимая тонкую грань между двумя мирами. С опорой на философию опыта Джона Дьюи, автор предлагает рассматривать субъективность игрока как ключевое звено в этом процессе обратной связи между цифровым и физическим пространством.
Завершая введение, автор уточняет концептуальные опоры своей статьи. Он интерпретирует иммерсию как не просто эффект технологии, а результат сформированного опыта, как индивидуального, так и коллективного. Он опирается на работы Мюррей, Дьюи и Анри Бергсона, подчёркивая: игра активирует эмоциональный, а не только когнитивный контакт с миром.
Опыт — ещё одна важная категория статьи. Вслед за философом Луи Кере автор понимает его как взаимодействие организма со средой, а не только как сенсорное восприятие или рациональное знание. Именно через опыт игрок преобразует игровую среду, а она — его. Это и есть механизм обратной связи, который автор далее будет иллюстрировать через подборку тематических кейсов.
Общественные пространства и цифровые игры
В этом разделе Кайо Тулио да Коста обращается к роли общественных пространств в истории и современности. Он подчёркивает, что с древности именно такие пространства — улицы, площади, сады — служили ареной для культурных и социальных выражений. Американский архитектор и урбанист Кевин Линч и немецкий философ Юрген Хабермас связывали общественные пространства с коллективной жизнью, однако, как уточняет автор, сам термин «общественное пространство» начал использоваться в официальных документах лишь в 1970-х годах (Ascher, 1995).
Да Коста отмечает: сегодня города сталкиваются с множеством проблем. Среди них — стихийный рост, приоритет автомобилизации в планировании, слабая градостроительная политика. Это приводит к потере баланса между плотной застройкой и отсутствием зелёных зон, мест для отдыха и пешеходной инфраструктуры. Общественные пространства нередко приходят в запустение, особенно в центральных районах, куда вытесняется коммерция, а жители переезжают на окраины (da Silva & de Queiroz, 2018).
В результате эти пространства теряют свою социальную функцию и превращаются в транзитные зоны для автомобилей. Автор ссылается на инициативу Global Designing Cities Initiative и идеи архитектора Дуга Фарра, который утверждает: устойчивый город возможен тогда, когда повседневные потребности можно удовлетворить в пределах пешей доступности (Farr, 2018). В такой системе важную роль играют физическая активность и комфортное передвижение.
Да Коста подчёркивает, что грамотное проектирование общественных пространств не только улучшает здоровье горожан, но и снижает уровень преступности. Он ссылается на исследования, показывающие, что такие пространства создают чувство принадлежности, формируют аффективную память, укрепляют идентичность и доверие. Они становятся средой, где проявляется культурное разнообразие и рождаются связи между жителями.
Опираясь на труды Марины Каллиари (Calliari, 2016), автор называет общественные пространства «самоподдерживающейся экосистемой», в которой циркулирует энергия множества социальных связей. В понимании автора сюда входят как открытые пространства (улицы, тротуары, парки), так и закрытые, но доступные всем — музеи, библиотеки, рынки.
Затем да Коста подводит к центральной теме статьи: общественные пространства как отражение человеческой деятельности начинают активно отображаться в цифровых играх. Он подчёркивает, что игры — это культурные продукты, создаваемые в социальном контексте, где сталкиваются интересы игроков и разработчиков. В этом свете, по мнению автора, особенно показательной становится серия SimCity и The Sims от студии Maxis. Эти игры моделируют архитектурную и городскую динамику, подчеркивая, как тесно переплетены игровая среда и урбанизм (Alves & Pratschke, 2015; da Silva Nunes et al., 2018).
Таким образом, да Коста подводит к мысли, что игры становятся своеобразной проекцией общественных пространств, отражая желания, конфликты и идентичности, связанные с реальной городской жизнью.
В этом разделе Кайо Тулио да Коста обращается к роли общественных пространств в истории и современности. Он подчёркивает, что с древности именно такие пространства — улицы, площади, сады — служили ареной для культурных и социальных выражений. Американский архитектор и урбанист Кевин Линч и немецкий философ Юрген Хабермас связывали общественные пространства с коллективной жизнью, однако, как уточняет автор, сам термин «общественное пространство» начал использоваться в официальных документах лишь в 1970-х годах (Ascher, 1995).
Да Коста отмечает: сегодня города сталкиваются с множеством проблем. Среди них — стихийный рост, приоритет автомобилизации в планировании, слабая градостроительная политика. Это приводит к потере баланса между плотной застройкой и отсутствием зелёных зон, мест для отдыха и пешеходной инфраструктуры. Общественные пространства нередко приходят в запустение, особенно в центральных районах, куда вытесняется коммерция, а жители переезжают на окраины (da Silva & de Queiroz, 2018).
В результате эти пространства теряют свою социальную функцию и превращаются в транзитные зоны для автомобилей. Автор ссылается на инициативу Global Designing Cities Initiative и идеи архитектора Дуга Фарра, который утверждает: устойчивый город возможен тогда, когда повседневные потребности можно удовлетворить в пределах пешей доступности (Farr, 2018). В такой системе важную роль играют физическая активность и комфортное передвижение.
Да Коста подчёркивает, что грамотное проектирование общественных пространств не только улучшает здоровье горожан, но и снижает уровень преступности. Он ссылается на исследования, показывающие, что такие пространства создают чувство принадлежности, формируют аффективную память, укрепляют идентичность и доверие. Они становятся средой, где проявляется культурное разнообразие и рождаются связи между жителями.
Опираясь на труды Марины Каллиари (Calliari, 2016), автор называет общественные пространства «самоподдерживающейся экосистемой», в которой циркулирует энергия множества социальных связей. В понимании автора сюда входят как открытые пространства (улицы, тротуары, парки), так и закрытые, но доступные всем — музеи, библиотеки, рынки.
Затем да Коста подводит к центральной теме статьи: общественные пространства как отражение человеческой деятельности начинают активно отображаться в цифровых играх. Он подчёркивает, что игры — это культурные продукты, создаваемые в социальном контексте, где сталкиваются интересы игроков и разработчиков. В этом свете, по мнению автора, особенно показательной становится серия SimCity и The Sims от студии Maxis. Эти игры моделируют архитектурную и городскую динамику, подчеркивая, как тесно переплетены игровая среда и урбанизм (Alves & Pratschke, 2015; da Silva Nunes et al., 2018).
Таким образом, да Коста подводит к мысли, что игры становятся своеобразной проекцией общественных пространств, отражая желания, конфликты и идентичности, связанные с реальной городской жизнью.
Цифровые игры в общественных пространствах
В этой части Кайо Тулио да Коста рассматривает движение в обратную сторону — не из реального мира в цифровой, как обычно, а из цифрового в реальный. Он подчёркивает, что элементы игровых нарративов и атмосферы всё чаще пересекают границу экранов и начинают «обживать» реальные пространства. При этом его не интересуют маркетинговые или промо-цели подобных инициатив — важно само явление взаимопроникновения.
Автор подробнее останавливается на двух кейсах из Бразилии, которые, по его мнению, особенно ярко иллюстрируют эту «обратную» петлю обратной связи между играми и общественными пространствами.
Да Коста описывает инициативу, связанную с игрой Pokémon GO, в рамках которой в городе Сузану (штат Сан-Паулу) в 2018 году начали появляться скульптуры покемонов. Сначала в городском пространстве установили Бульбазавра, затем — легендарных покемонов Селеби и Мью, а чуть позже — Чаризарда. Все скульптуры были размещены в общественных местах, а в самой игре проходили тематические события, которые связывали игроков с этими объектами. По некоторым сообщениям, Сузану даже стали называть «бразильской столицей покемонов». Подобная акция была второй в мире — первой стала установка Пикачу в Новом Орлеане в 2016 году.
Второй кейс — проект Paulista Invaders (2013), разработанный лабораторией MidiaLab Университета Бразилиа под руководством исследовательницы Сузете Вентурелли. В рамках проекта фасад здания FIESP/SESI на авеню Паулиста превратили в интерактивную игровую площадку: прохожие могли сыграть в переосмысленную версию Space Invaders, где пришельцев заменили машины и велосипеды, а игровое поле собиралось из 100 000 светодиодов. Играть можно было вживую при помощи iPad’ов — с поддержкой волонтёров на улице.
Авторы проекта подчёркивали, что речь идёт не просто о развлечении или игре, а о переприсвоении и оживлении городского пространства, вовлечении жителей и обсуждении таких тем, как устойчивое развитие и мобильность. Это был акт со-проживания цифрового и реального, который, по мнению да Косты, переосмысляет саму природу городской игры и принадлежности.
Таким образом, в этой части статьи автор показывает, как цифровые игры могут в буквальном смысле укореняться в физическом мире, трансформируя восприятие городской среды и побуждая горожан к новому способу участия в жизни города — через игру.
В этой части Кайо Тулио да Коста рассматривает движение в обратную сторону — не из реального мира в цифровой, как обычно, а из цифрового в реальный. Он подчёркивает, что элементы игровых нарративов и атмосферы всё чаще пересекают границу экранов и начинают «обживать» реальные пространства. При этом его не интересуют маркетинговые или промо-цели подобных инициатив — важно само явление взаимопроникновения.
Автор подробнее останавливается на двух кейсах из Бразилии, которые, по его мнению, особенно ярко иллюстрируют эту «обратную» петлю обратной связи между играми и общественными пространствами.
Да Коста описывает инициативу, связанную с игрой Pokémon GO, в рамках которой в городе Сузану (штат Сан-Паулу) в 2018 году начали появляться скульптуры покемонов. Сначала в городском пространстве установили Бульбазавра, затем — легендарных покемонов Селеби и Мью, а чуть позже — Чаризарда. Все скульптуры были размещены в общественных местах, а в самой игре проходили тематические события, которые связывали игроков с этими объектами. По некоторым сообщениям, Сузану даже стали называть «бразильской столицей покемонов». Подобная акция была второй в мире — первой стала установка Пикачу в Новом Орлеане в 2016 году.
Второй кейс — проект Paulista Invaders (2013), разработанный лабораторией MidiaLab Университета Бразилиа под руководством исследовательницы Сузете Вентурелли. В рамках проекта фасад здания FIESP/SESI на авеню Паулиста превратили в интерактивную игровую площадку: прохожие могли сыграть в переосмысленную версию Space Invaders, где пришельцев заменили машины и велосипеды, а игровое поле собиралось из 100 000 светодиодов. Играть можно было вживую при помощи iPad’ов — с поддержкой волонтёров на улице.
Авторы проекта подчёркивали, что речь идёт не просто о развлечении или игре, а о переприсвоении и оживлении городского пространства, вовлечении жителей и обсуждении таких тем, как устойчивое развитие и мобильность. Это был акт со-проживания цифрового и реального, который, по мнению да Косты, переосмысляет саму природу городской игры и принадлежности.
Таким образом, в этой части статьи автор показывает, как цифровые игры могут в буквальном смысле укореняться в физическом мире, трансформируя восприятие городской среды и побуждая горожан к новому способу участия в жизни города — через игру.
Общественные пространства в цифровых играх
В этой части Кайо Тулио да Коста фокусируется на франшизе SimCity как ключевом примере того, как цифровые игры моделируют и переосмысляют общественные пространства. Он отмечает, что первая игра серии, вышедшая в 1989 году, заложила основы жанра симуляторов городского планирования, основанного на управлении ресурсами (Arnold и др., 2019). Автор подчёркивает, что SimCity не просто игра, но важное культурное явление, повлиявшее на развитие других жанров и на представления о планировании в целом.
По словам да Косты, игрок в SimCity берёт на себя роль мэра или планировщика, который должен строить и управлять городом: распределять зоны (жилые, коммерческие, промышленные), устанавливать налоговую политику, справляться с загрязнением, ростом населения и социальными проблемами. Эти процессы моделируют реальные сложности урбанистики и создают поле для экспериментирования с различными сценариями развития.
Однако в игре есть и возможность разрушения. Игрок может вызвать землетрясение, пожар, торнадо, наводнение, катастрофу с участием самолёта или даже атаку монстра, напоминающего Годзиллу. Да Коста подчёркивает, что такие сценарии дают игроку опыт управления кризисами, а случайное появление катастроф придаёт игровому процессу дополнительную реалистичность: например, наводнение не произойдёт в городе, построенном в пустыне (Terzano & Morckel, 2016).
Особое внимание автор уделяет тому, что в SimCity нет чёткой цели или способа «победить». По мнению Arnold и др. (2019), разработчики стремились к тому, чтобы игрок получал удовольствие от результатов собственных решений. Игровая обратная связь осуществляется через мнение жителей: они одобряют или критикуют решения мэра, требуют парк или торговый центр, а статистика отражает демографические и социальные изменения в городе. Это делает SimCity своеобразной «песочницей» для моделирования общественных процессов.
Да Коста ссылается на Ким Джастис (Justice, 2021), отмечая, что игра широко обсуждалась в прессе и даже использовалась в образовательных целях. Более того, он приводит политический кейс: в США, в городе Провиденс (штат Род-Айленд), во время выборов мэра местная газета организовала конкурс. Пятеро кандидатов должны были создать свои версии города в SimCity. Один из них, Винсент «Бадди» Чианси, оказался единственным, кто улучшил городскую ситуацию, и в итоге выиграл и в симуляции, и на выборах.
На основании этих примеров да Коста делает более широкий вывод: цифровые игры, и особенно такие как SimCity, становятся интерфейсами для чувственного и когнитивного опыта, где человек взаимодействует с цифровой средой, а она — с ним. Это взаимодействие — или «петля обратной связи» — позволяет формировать уникальные переживания, в которых игрок одновременно влияет на игру и трансформируется под её воздействием.
Ссылаясь на немецкого философа Ханса-Георга Гадамера, автор подчёркивает: игра даёт возможность «населить» мир, будь то реальный мир с элементами игры или виртуальная среда, в которую проникают реальные процессы. Через такую игру формируется интимный, чувственный опыт, в котором эмоции обретают значение — не как результат технологии, а как часть процесса проживания. В этом контексте, как пишет да Коста, сама игра становится не просто медиа, а территорией, активируемой через переживание.
В этой части Кайо Тулио да Коста фокусируется на франшизе SimCity как ключевом примере того, как цифровые игры моделируют и переосмысляют общественные пространства. Он отмечает, что первая игра серии, вышедшая в 1989 году, заложила основы жанра симуляторов городского планирования, основанного на управлении ресурсами (Arnold и др., 2019). Автор подчёркивает, что SimCity не просто игра, но важное культурное явление, повлиявшее на развитие других жанров и на представления о планировании в целом.
По словам да Косты, игрок в SimCity берёт на себя роль мэра или планировщика, который должен строить и управлять городом: распределять зоны (жилые, коммерческие, промышленные), устанавливать налоговую политику, справляться с загрязнением, ростом населения и социальными проблемами. Эти процессы моделируют реальные сложности урбанистики и создают поле для экспериментирования с различными сценариями развития.
Однако в игре есть и возможность разрушения. Игрок может вызвать землетрясение, пожар, торнадо, наводнение, катастрофу с участием самолёта или даже атаку монстра, напоминающего Годзиллу. Да Коста подчёркивает, что такие сценарии дают игроку опыт управления кризисами, а случайное появление катастроф придаёт игровому процессу дополнительную реалистичность: например, наводнение не произойдёт в городе, построенном в пустыне (Terzano & Morckel, 2016).
Особое внимание автор уделяет тому, что в SimCity нет чёткой цели или способа «победить». По мнению Arnold и др. (2019), разработчики стремились к тому, чтобы игрок получал удовольствие от результатов собственных решений. Игровая обратная связь осуществляется через мнение жителей: они одобряют или критикуют решения мэра, требуют парк или торговый центр, а статистика отражает демографические и социальные изменения в городе. Это делает SimCity своеобразной «песочницей» для моделирования общественных процессов.
Да Коста ссылается на Ким Джастис (Justice, 2021), отмечая, что игра широко обсуждалась в прессе и даже использовалась в образовательных целях. Более того, он приводит политический кейс: в США, в городе Провиденс (штат Род-Айленд), во время выборов мэра местная газета организовала конкурс. Пятеро кандидатов должны были создать свои версии города в SimCity. Один из них, Винсент «Бадди» Чианси, оказался единственным, кто улучшил городскую ситуацию, и в итоге выиграл и в симуляции, и на выборах.
На основании этих примеров да Коста делает более широкий вывод: цифровые игры, и особенно такие как SimCity, становятся интерфейсами для чувственного и когнитивного опыта, где человек взаимодействует с цифровой средой, а она — с ним. Это взаимодействие — или «петля обратной связи» — позволяет формировать уникальные переживания, в которых игрок одновременно влияет на игру и трансформируется под её воздействием.
Ссылаясь на немецкого философа Ханса-Георга Гадамера, автор подчёркивает: игра даёт возможность «населить» мир, будь то реальный мир с элементами игры или виртуальная среда, в которую проникают реальные процессы. Через такую игру формируется интимный, чувственный опыт, в котором эмоции обретают значение — не как результат технологии, а как часть процесса проживания. В этом контексте, как пишет да Коста, сама игра становится не просто медиа, а территорией, активируемой через переживание.
Опыт игры как петля обратной связи между игроком и игрой
В этом разделе Кайо Тулио да Коста опирается на философские идеи Джона Дьюи, утверждая, что любой опыт — внутренний или внешний — является частью общей человеческой жизни. По Дьюи, опыт включает в себя всё: от страданий и стремлений до любви, веры, действия и воображения (Dewey, 2010; 2012). Важно, что прошлый опыт — это не только память, но и основа для будущих действий, потому что он участвует в формировании гипотез, то есть в самом процессе жизненного эксперимента (Marcondes, 2017). Этот непрерывный поток опыта формирует человека как субъекта — и как Homo ludens, играющего человека (Huizinga, 2024; Bergson, 2019).
Далее да Коста обращается к архитектуре и градостроительству, сравнивая проектирование с игрой. Ссылаясь на исследователей Густаво Алвеса и Артура Пратшке, он пишет, что архитектурное проектирование — это интерактивный процесс, в котором участвуют специалисты из разных областей. Они действуют в рамках ограничений — физических, социальных, экономических — и выстраивают баланс на основе накопленного опыта. В этом смысле проектирование, как и игра, требует взаимодействия, стратегии и постоянной обратной связи (Alves & Pratschke, 2015).
Эта логика распространяется и на цифровые игры, в которых моделируются общественные пространства. На примере SimCity автор показывает, как игроки через игру могут задумываться о политике, урбанизме и образе идеального города (Lobo, 2007). Игры становятся не просто отражением мира, а инструментом его переосмысления. То же относится к The Sims — другой серии от студии Maxis. Игроки здесь проектируют дома, сносят или создают конструкции, и в этом процессе они буквально взаимодействуют с архитектурой (Flanagan, 2007; Alves & Pratschke, 2015). Как отмечают исследователи, в таких играх эстетика и функциональность становятся полем для изучения архитектурных и пространственных аспектов (da Silva Nunes et al., 2018).
В заключение автор пишет о том, что опыт игры — это всегда процесс взаимных трансформаций. Игрок и игра «субъективируются» друг через друга: происходит идентификация, проекция, иммерсивное погружение (Murray, 2017). Это не обязательно связано с реальным или виртуальным пространством — достаточно самого взаимодействия. Именно в этом взаимодействии возникает динамика обратной связи, благодаря которой общественное пространство может «восстановить» свои функции и смыслы: стать местом жизни, общения и соучастия.
Таким образом, игра — как и архитектура — становится средством конструирования самой человеческой повседневности, как писали Хабермас (2023), Линч (1960), Фарр (2018), а также Гейл и Сварре (2013).
В этом разделе Кайо Тулио да Коста опирается на философские идеи Джона Дьюи, утверждая, что любой опыт — внутренний или внешний — является частью общей человеческой жизни. По Дьюи, опыт включает в себя всё: от страданий и стремлений до любви, веры, действия и воображения (Dewey, 2010; 2012). Важно, что прошлый опыт — это не только память, но и основа для будущих действий, потому что он участвует в формировании гипотез, то есть в самом процессе жизненного эксперимента (Marcondes, 2017). Этот непрерывный поток опыта формирует человека как субъекта — и как Homo ludens, играющего человека (Huizinga, 2024; Bergson, 2019).
Далее да Коста обращается к архитектуре и градостроительству, сравнивая проектирование с игрой. Ссылаясь на исследователей Густаво Алвеса и Артура Пратшке, он пишет, что архитектурное проектирование — это интерактивный процесс, в котором участвуют специалисты из разных областей. Они действуют в рамках ограничений — физических, социальных, экономических — и выстраивают баланс на основе накопленного опыта. В этом смысле проектирование, как и игра, требует взаимодействия, стратегии и постоянной обратной связи (Alves & Pratschke, 2015).
Эта логика распространяется и на цифровые игры, в которых моделируются общественные пространства. На примере SimCity автор показывает, как игроки через игру могут задумываться о политике, урбанизме и образе идеального города (Lobo, 2007). Игры становятся не просто отражением мира, а инструментом его переосмысления. То же относится к The Sims — другой серии от студии Maxis. Игроки здесь проектируют дома, сносят или создают конструкции, и в этом процессе они буквально взаимодействуют с архитектурой (Flanagan, 2007; Alves & Pratschke, 2015). Как отмечают исследователи, в таких играх эстетика и функциональность становятся полем для изучения архитектурных и пространственных аспектов (da Silva Nunes et al., 2018).
В заключение автор пишет о том, что опыт игры — это всегда процесс взаимных трансформаций. Игрок и игра «субъективируются» друг через друга: происходит идентификация, проекция, иммерсивное погружение (Murray, 2017). Это не обязательно связано с реальным или виртуальным пространством — достаточно самого взаимодействия. Именно в этом взаимодействии возникает динамика обратной связи, благодаря которой общественное пространство может «восстановить» свои функции и смыслы: стать местом жизни, общения и соучастия.
Таким образом, игра — как и архитектура — становится средством конструирования самой человеческой повседневности, как писали Хабермас (2023), Линч (1960), Фарр (2018), а также Гейл и Сварре (2013).
Обсуждение и выводы
В заключении Кайо Тулио да Коста подводит итоги исследования, утверждая: в современную эпоху общественные пространства и цифровые игры всё чаще выступают как формы проекции пользовательского опыта. Они представляют собой гибридные среды, в которых переплетаются культурные, социальные и эстетические значения, перетекающие из физического мира в виртуальный и обратно.
Да Коста отмечает, что общественные пространства занимают в играх особое, хотя и не всегда осознанное, положение. Даже если разработчики напрямую не стремятся к этому, такие пространства становятся ареной для проживания, представительства и включённости. Находиться внутри игры, будь то в физическом городе или в его цифровом двойнике, — это акт гражданского участия. Игровое освоение пространства можно рассматривать как форму «обживания» и переосмысления публичности, доступности и принадлежности.
Исследователь подчеркивает: осмысление цифровых игр как пространств, в которых возможно реализовать принципы гражданской субъектности, связано с архитектурной динамикой. Речь идёт не только о нарративах и триггерах иммерсии (в духе Джанет Мюррей), но и о включении игрока в процессы, аналогичные тем, что происходят в реальном городском пространстве.
Автор предлагает рассматривать это направление как перспективную область для дальнейших исследований. Он призывает исследователей гейм-стадис изучать, как цифровые общественные пространства могут способствовать гражданской активности, вовлечённости и критическому мышлению. Особенно важным он считает мультидисциплинарный подход, включающий архитектурные, культурные и нарративные контексты.
Таким образом, статья вносит вклад в развитие дискурса об играх как инструментах осмысления общественных пространств и подчёркивает их потенциал как медиумов, в которых формируется новое ощущение места и взаимодействия. Да Коста завершает работу призывом к дальнейшим изысканиям, подчеркивая, что представленное исследование может стать отправной точкой для новых междисциплинарных исследований на стыке архитектуры, геймдизайна и культурной теории.
--
Источник: Caio Tulio Olimpio Pereira da Costa, Among Pixels and Pavement: Exploring the Feedback Loop Between Digital Games and Public Spaces. In: Acta Ludologica, vol. 8, no. 1, 2025, pp. 4–15.
Доступно онлайн: https://doi.org/10.34135/actaludologica.2025-8-1.4-15
В заключении Кайо Тулио да Коста подводит итоги исследования, утверждая: в современную эпоху общественные пространства и цифровые игры всё чаще выступают как формы проекции пользовательского опыта. Они представляют собой гибридные среды, в которых переплетаются культурные, социальные и эстетические значения, перетекающие из физического мира в виртуальный и обратно.
Да Коста отмечает, что общественные пространства занимают в играх особое, хотя и не всегда осознанное, положение. Даже если разработчики напрямую не стремятся к этому, такие пространства становятся ареной для проживания, представительства и включённости. Находиться внутри игры, будь то в физическом городе или в его цифровом двойнике, — это акт гражданского участия. Игровое освоение пространства можно рассматривать как форму «обживания» и переосмысления публичности, доступности и принадлежности.
Исследователь подчеркивает: осмысление цифровых игр как пространств, в которых возможно реализовать принципы гражданской субъектности, связано с архитектурной динамикой. Речь идёт не только о нарративах и триггерах иммерсии (в духе Джанет Мюррей), но и о включении игрока в процессы, аналогичные тем, что происходят в реальном городском пространстве.
Автор предлагает рассматривать это направление как перспективную область для дальнейших исследований. Он призывает исследователей гейм-стадис изучать, как цифровые общественные пространства могут способствовать гражданской активности, вовлечённости и критическому мышлению. Особенно важным он считает мультидисциплинарный подход, включающий архитектурные, культурные и нарративные контексты.
Таким образом, статья вносит вклад в развитие дискурса об играх как инструментах осмысления общественных пространств и подчёркивает их потенциал как медиумов, в которых формируется новое ощущение места и взаимодействия. Да Коста завершает работу призывом к дальнейшим изысканиям, подчеркивая, что представленное исследование может стать отправной точкой для новых междисциплинарных исследований на стыке архитектуры, геймдизайна и культурной теории.
--
Источник: Caio Tulio Olimpio Pereira da Costa, Among Pixels and Pavement: Exploring the Feedback Loop Between Digital Games and Public Spaces. In: Acta Ludologica, vol. 8, no. 1, 2025, pp. 4–15.
Доступно онлайн: https://doi.org/10.34135/actaludologica.2025-8-1.4-15