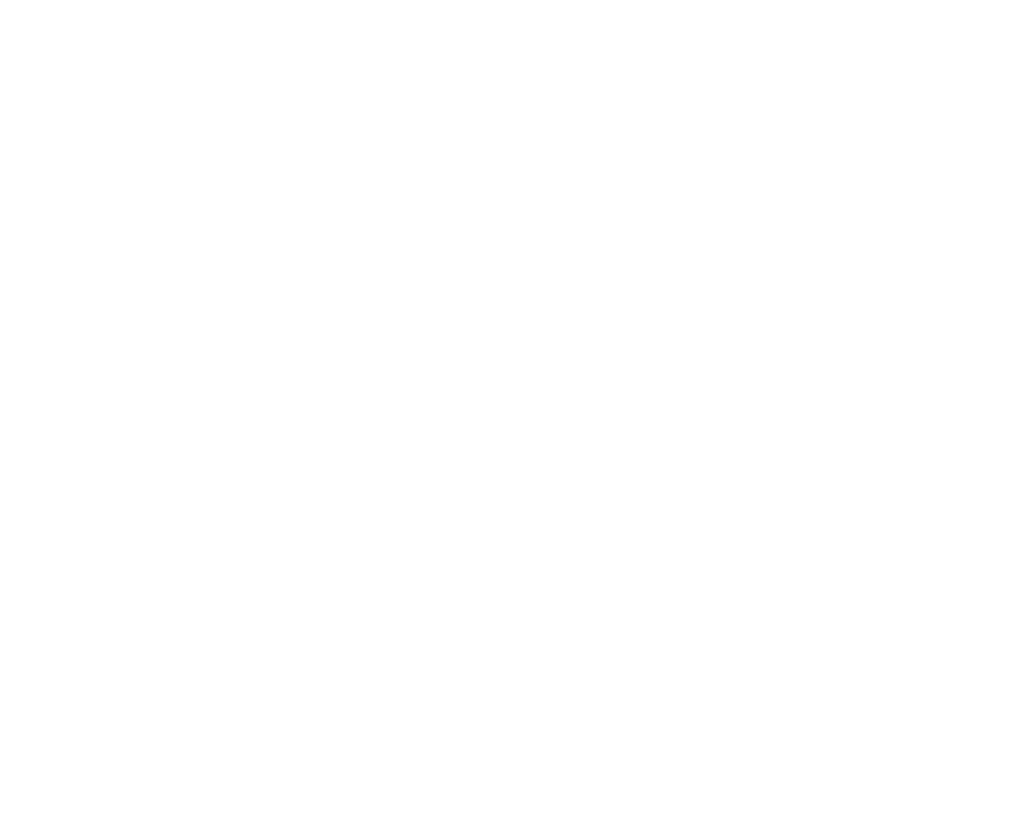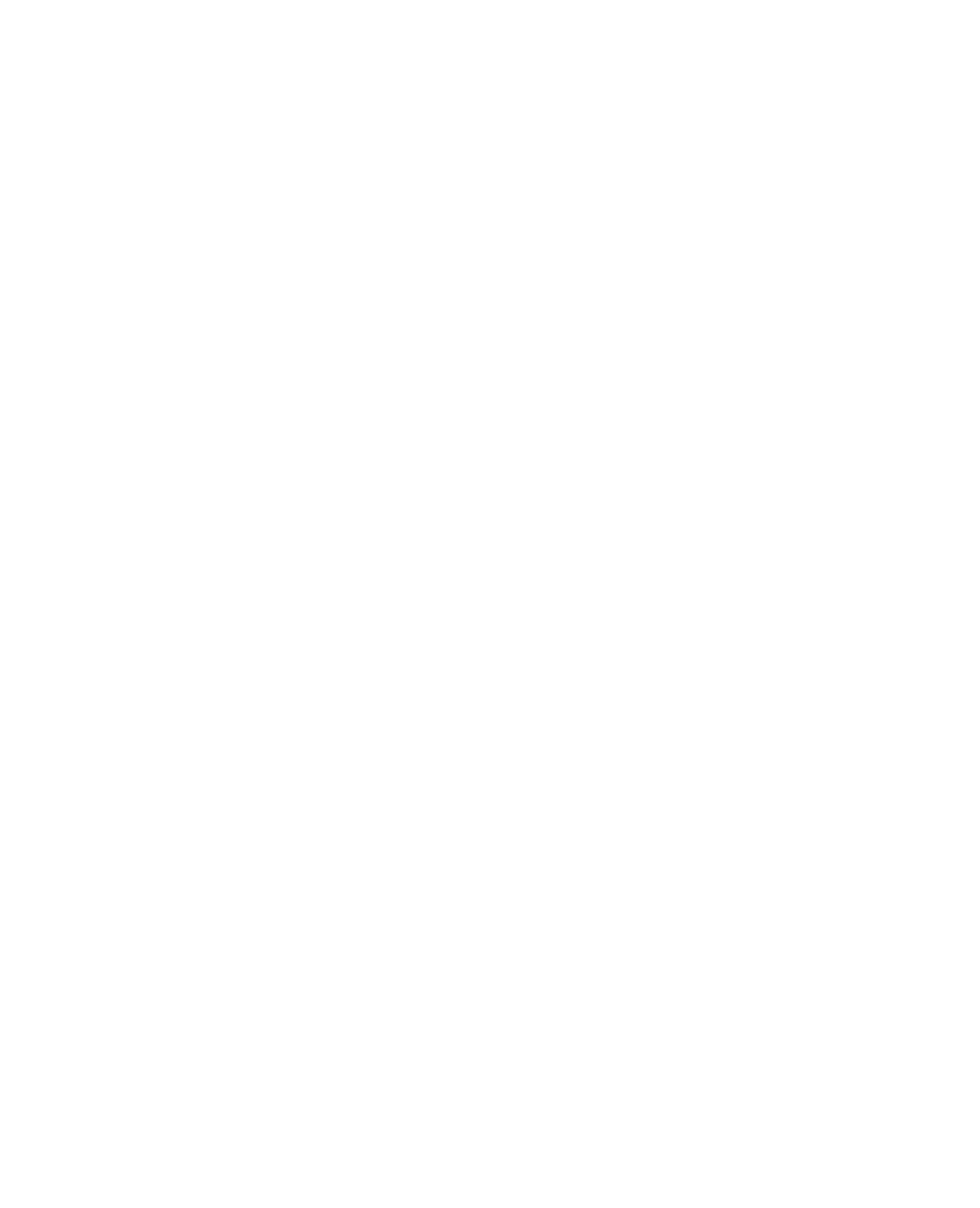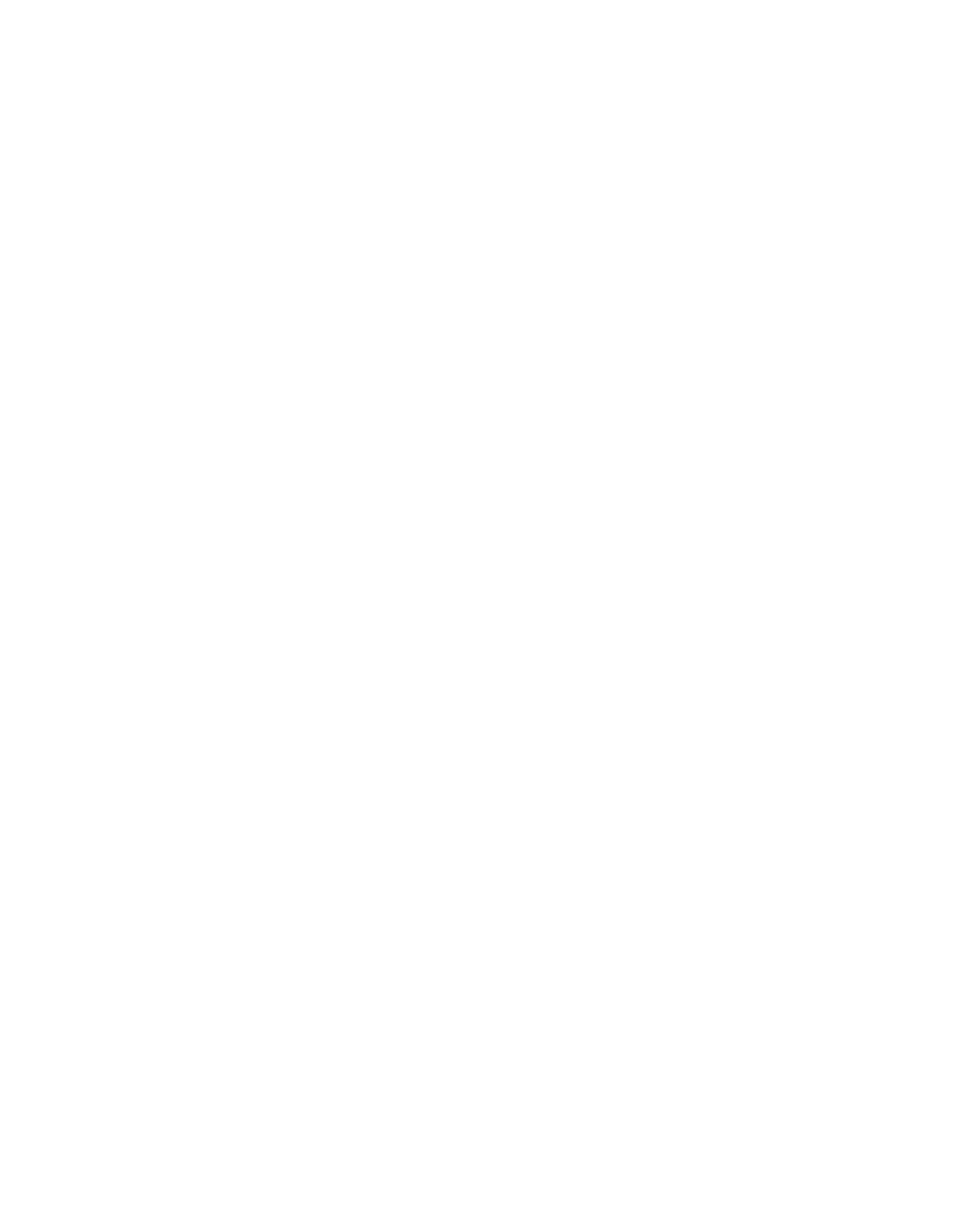#архитектура
Краткое руководство по нарисованным мирам
Краткий пересказ-перевод статьи Джонатана Паттерсона о концепции «нарисованных миров» и том, как они проявляются в аттракционах Disney и Dark Souls III.
Источник: Jonathan W. Patterson, A Beginner's Guide to Painted Worlds: The Haunted Mansion, Dark Souls III, and the Playground of Interpretation. In: Proceedings of the Digital Games Research Association Conference (DiGRA), 2024.
Доступно онлайн: https://dl.digra.org/index.php/dl/article/view/2238
Доступно онлайн: https://dl.digra.org/index.php/dl/article/view/2238
Что объединяет старый особняк из тематического парка и заснеженный фантазийный мир из видеоигры? Американский исследователь Джонатан Паттерсон предлагает посмотреть на них как на примеры «нарисованных миров» — пространств, которые отрываются от реальности и превращаются в загадочные игровые площадки интерпретации. Здесь нет готового ответа, только намёки, детали и свобода для воображения. В этом тексте — подробный разбор статьи Паттерсона и размышления о том, почему подобные миры так притягательны.
Введение
Джонатан Паттерсон начинает статью с размышления о понятии «игровая площадка» (playground). Он сразу уточняет, что его интересует не просто физическая площадка для игры, а более широкий вопрос: как само пространство и культурные привычки задают определённые формы игры. Особенно это становится заметно, если игровая площадка имеет чёткую культурную или историческую специфику.
Цель статьи — проанализировать пространство игры в контексте видеоигр, но при этом, как подчёркивает Паттерсон, важно не отрывать медиум видеоигр от той историко-культурной среды, из которой он вырос. Поэтому автор начинает не с игр, а с примера театрального пространства.
Он предлагает взглянуть на театральную сцену как на своего рода игровую площадку — пространство, специально отведённое для игры-представления. Формально сцена — это просто возвышенная плоская платформа, которую можно оформить декорациями. Сама по себе её конструкция никак не «подсказывает», во что здесь следует играть. Однако культурные коды и история театра настолько сильны, что именно сцена определяет, какие формы игры там возможны. Паттерсон ссылается на немецкого режиссёра Эрвина Пискатора (Erwin Piscator), который ещё в 1929 году называл сцену «миром кукольного театра буржуазии» — то есть отдельным пространством, существующим по собственным законам.
Этот «другой мир», по мнению Паттерсона, создаётся в момент игры — то есть во время театрального действия. Для зрителя практически неважно, была ли реплика актёра заранее заучена или придумана на месте: всё, что происходит на сцене, воспринимается как часть этого вымышленного мира.
Однако сами актёры знают, что их реальность формируется ещё до спектакля — на репетициях. В процессе репетиций содержание спектакля может меняться, поскольку актёры и режиссёр вместе ищут лучшие формы выражения истории. Этот процесс постоянного переосмысления, по мнению Паттерсона, — нечто особенное, отличающее театр от чистой импровизации и от жёстко зафиксированного сценария.
Здесь Паттерсон переходит к ключевым фигурам, чьи идеи легли в основу его размышлений — это немецкие режиссёры Бертольт Брехт (Bertolt Brecht) и уже упомянутый Эрвин Пискатор. Они оба разрабатывали концепцию революционного театра, известного как эпический театр.
Паттерсон цитирует Брехта, который настаивал: актёры должны оставаться «читателями» своих ролей как можно дольше на этапе репетиций. Это позволит им играть так, чтобы для зрителя становились видимыми альтернативы событий — чтобы спектакль не казался жёстко заданной реальностью, а раскрывал разные возможные версии происходящего. Брехт называл этот метод «фиксировать не...а» (fixing the 'not...but'), то есть акцентировать внимание на том, что выбранная версия событий — это лишь один из возможных вариантов, а не единственная истина.
Эрвин Пискатор, в свою очередь, подчеркивал аналитический, конструктивный подход к театру. Он мечтал о спектакле, «настолько научном и рационально выстроенном, как архитектура сцены», где каждая деталь осмысленна и взаимосвязана.
Такой театр, по мысли Брехта и Пискатора, должен был не только развлекать, но и помогать зрителям увидеть мир как нечто изменяемое. Спектакль раскрывает, что любая социальная реальность — не фатум, а результат коллективных решений и потому может быть переосмыслена.
Однако Паттерсон делает акцент не на зрителях, а на самой репетиции. Он отмечает, что театр Брехта и Пискатора был не только политическим проектом, направленным на поддержку коммунистического движения в Веймарской республике, но и способом формирования сообщества. Вокруг театра объединялись актёры, режиссёры, музыканты, архитекторы, техники — они репетировали не только спектакль, но и своё собственное коллективное существование. По словам Пискатора, со временем такая совместная работа превратилась в своеобразное человеческое и художественное сообщество.
Особое значение имело Студия — отдельное пространство внутри театра, предназначенное не для показа спектаклей, а для свободных, творческих репетиций. Пискатор называл её «игровой площадкой, ареной подготовительной работы».
Вот именно это — связь пространства, игры и сообщества — Паттерсон считает ключом к пониманию пространств интерпретации в видеоиграх. Он вводит понятие «игровая площадка интерпретации» (playground of interpretation) как модель и инструмент анализа пространств, которые провоцируют совместное воображение, переосмысление и формирование коллективного опыта.
Понятие «игра» здесь для Паттерсона многозначно. С одной стороны, это действие — игра в спектакле или в видеоигре. С другой — это игра смысла, интерпретация, обсуждение, переосмысление. Поэтому игровая площадка — это не просто физическое пространство или архитектурная конструкция, а любое пространство (реальное или виртуальное), которое используется сообществом для игры и коллективного осмысления.
Паттерсон подчёркивает, что такие пространства могут выходить за пределы своей материальной оболочки — например, обсуждения на форумах или художественные переосмысления тоже становятся частью этой игровой площадки.
В завершение введения Паттерсон говорит, что он будет опираться на теорию интерпретации французского философа Поля Рикёра, исследования фан-сообществ, теорию перформанса и историю визуальных медиа. Всё это поможет ему проанализировать, как «игровые площадки интерпретации» развиваются в пространстве видеоигр и какие нарративные структуры там возникают. Также он обещает показать, что такие площадки имеют долгую культурную историю и не лишены своих слабых мест.
Далее он будет развивать теоретические основания своей концепции, а затем применять её к двум примерам: аттракциону The Haunted Mansion и локации Painted World of Ariandel из Dark Souls III, уделяя особое внимание тем сообществам, которые формируются вокруг этих пространств.
Джонатан Паттерсон начинает статью с размышления о понятии «игровая площадка» (playground). Он сразу уточняет, что его интересует не просто физическая площадка для игры, а более широкий вопрос: как само пространство и культурные привычки задают определённые формы игры. Особенно это становится заметно, если игровая площадка имеет чёткую культурную или историческую специфику.
Цель статьи — проанализировать пространство игры в контексте видеоигр, но при этом, как подчёркивает Паттерсон, важно не отрывать медиум видеоигр от той историко-культурной среды, из которой он вырос. Поэтому автор начинает не с игр, а с примера театрального пространства.
Он предлагает взглянуть на театральную сцену как на своего рода игровую площадку — пространство, специально отведённое для игры-представления. Формально сцена — это просто возвышенная плоская платформа, которую можно оформить декорациями. Сама по себе её конструкция никак не «подсказывает», во что здесь следует играть. Однако культурные коды и история театра настолько сильны, что именно сцена определяет, какие формы игры там возможны. Паттерсон ссылается на немецкого режиссёра Эрвина Пискатора (Erwin Piscator), который ещё в 1929 году называл сцену «миром кукольного театра буржуазии» — то есть отдельным пространством, существующим по собственным законам.
Этот «другой мир», по мнению Паттерсона, создаётся в момент игры — то есть во время театрального действия. Для зрителя практически неважно, была ли реплика актёра заранее заучена или придумана на месте: всё, что происходит на сцене, воспринимается как часть этого вымышленного мира.
Однако сами актёры знают, что их реальность формируется ещё до спектакля — на репетициях. В процессе репетиций содержание спектакля может меняться, поскольку актёры и режиссёр вместе ищут лучшие формы выражения истории. Этот процесс постоянного переосмысления, по мнению Паттерсона, — нечто особенное, отличающее театр от чистой импровизации и от жёстко зафиксированного сценария.
Здесь Паттерсон переходит к ключевым фигурам, чьи идеи легли в основу его размышлений — это немецкие режиссёры Бертольт Брехт (Bertolt Brecht) и уже упомянутый Эрвин Пискатор. Они оба разрабатывали концепцию революционного театра, известного как эпический театр.
Паттерсон цитирует Брехта, который настаивал: актёры должны оставаться «читателями» своих ролей как можно дольше на этапе репетиций. Это позволит им играть так, чтобы для зрителя становились видимыми альтернативы событий — чтобы спектакль не казался жёстко заданной реальностью, а раскрывал разные возможные версии происходящего. Брехт называл этот метод «фиксировать не...а» (fixing the 'not...but'), то есть акцентировать внимание на том, что выбранная версия событий — это лишь один из возможных вариантов, а не единственная истина.
Эрвин Пискатор, в свою очередь, подчеркивал аналитический, конструктивный подход к театру. Он мечтал о спектакле, «настолько научном и рационально выстроенном, как архитектура сцены», где каждая деталь осмысленна и взаимосвязана.
Такой театр, по мысли Брехта и Пискатора, должен был не только развлекать, но и помогать зрителям увидеть мир как нечто изменяемое. Спектакль раскрывает, что любая социальная реальность — не фатум, а результат коллективных решений и потому может быть переосмыслена.
Однако Паттерсон делает акцент не на зрителях, а на самой репетиции. Он отмечает, что театр Брехта и Пискатора был не только политическим проектом, направленным на поддержку коммунистического движения в Веймарской республике, но и способом формирования сообщества. Вокруг театра объединялись актёры, режиссёры, музыканты, архитекторы, техники — они репетировали не только спектакль, но и своё собственное коллективное существование. По словам Пискатора, со временем такая совместная работа превратилась в своеобразное человеческое и художественное сообщество.
Особое значение имело Студия — отдельное пространство внутри театра, предназначенное не для показа спектаклей, а для свободных, творческих репетиций. Пискатор называл её «игровой площадкой, ареной подготовительной работы».
Вот именно это — связь пространства, игры и сообщества — Паттерсон считает ключом к пониманию пространств интерпретации в видеоиграх. Он вводит понятие «игровая площадка интерпретации» (playground of interpretation) как модель и инструмент анализа пространств, которые провоцируют совместное воображение, переосмысление и формирование коллективного опыта.
Понятие «игра» здесь для Паттерсона многозначно. С одной стороны, это действие — игра в спектакле или в видеоигре. С другой — это игра смысла, интерпретация, обсуждение, переосмысление. Поэтому игровая площадка — это не просто физическое пространство или архитектурная конструкция, а любое пространство (реальное или виртуальное), которое используется сообществом для игры и коллективного осмысления.
Паттерсон подчёркивает, что такие пространства могут выходить за пределы своей материальной оболочки — например, обсуждения на форумах или художественные переосмысления тоже становятся частью этой игровой площадки.
В завершение введения Паттерсон говорит, что он будет опираться на теорию интерпретации французского философа Поля Рикёра, исследования фан-сообществ, теорию перформанса и историю визуальных медиа. Всё это поможет ему проанализировать, как «игровые площадки интерпретации» развиваются в пространстве видеоигр и какие нарративные структуры там возникают. Также он обещает показать, что такие площадки имеют долгую культурную историю и не лишены своих слабых мест.
Далее он будет развивать теоретические основания своей концепции, а затем применять её к двум примерам: аттракциону The Haunted Mansion и локации Painted World of Ariandel из Dark Souls III, уделяя особое внимание тем сообществам, которые формируются вокруг этих пространств.
От экзегезы* к фанатским теориям
На этом этапе Паттерсон объясняет, как именно должна быть устроена «игровая площадка интерпретации» — чтобы пространство действительно позволяло участникам вместе конструировать смыслы, не сводя их к жёстким, однозначным трактовкам.
Он отмечает, что такая площадка существует до формирования фиксированной реальности. Это своего рода «песочница», где люди не договариваются о том, какие утверждения или действия считаются правдой, а обсуждают и исследуют возможные интерпретации, опираясь на структуру и содержание самого пространства.
Главная цель такой площадки — максимально откладывать завершение интерпретации. Здесь Паттерсон делает, как он сам говорит, «парадоксальное» уточнение: пространство должно быть устроено так, чтобы мешать интерпретации в привычном понимании этого слова.
Чтобы пояснить эту мысль, он обращается к философу Полю Рикёру и его теории герменевтики (интерпретации текста). По Рикёру, интерпретация — это процесс, в котором человек как бы «примеряет» на себя восприятие мира, заложенное в тексте. Читая или рассматривая текст, человек временно отказывается от собственного взгляда и начинает видеть мир глазами текста. Через это, пишет Рикёр, человек получает «новую способность к самопознанию».
Однако у этого процесса есть финальная стадия. Интерпретация в итоге приводит к ассимиляции, к «актуализации смысла» текста для конкретного читателя. Человек преодолевает дистанцию между собой и текстом, смысл становится частью его внутреннего мира. Рикёр называет это «игровым перевоплощением эго», подчёркивая индивидуальный, личный характер процесса.
Паттерсон отмечает, что здесь есть важный нюанс: интерпретация в таком понимании перестаёт быть коллективным обсуждением или совместным поиском смысла. Это уже не диалог, а личный процесс «присвоения» смысла, который завершает интерпретацию.
Тем не менее, сам Рикёр также говорит о «нарративной идентичности» — процессе, где интерпретация становится коллективной и постоянной. Смысл формируется через бесконечную череду переосмыслений, где один нарратив корректирует или дополняет другой. Рикёр особенно выделяет в этом процессе роль библейских текстов — они, по его мнению, создают огромное поле для интерпретаций и сравнений, где нет жёстких ограничений.
Эта идея, замечает Паттерсон, удивительным образом перекликается с тем, как фанаты работают с вымышленными вселенными. Он ссылается на работы американского философа и культуролога Генри Дженкинса, особенно на книгу Textual Poachers (1992).
Дженкинс анализировал, как фанаты переосмысляют и дополняют любимые тексты, например, сериал Star Trek. Сообщество поклонников постоянно пересматривало старые эпизоды, формируя некий «идеальный», собирательный образ сериала — так называемый мета-текст. Этот мета-текст становится основой для бесконечного фанатского творчества: споров, фанфиков, переосмыслений и художественных экспериментов.
Однако, как подчёркивает Паттерсон, такие сообщества часто стремятся к тому, чтобы зафиксировать некую единую версию смысла. Он ссылается на исследовательницу Лесли Гудман, которая назвала это явление «фантогонизм» (fan-tagonism) — потребность добиться единства понимания вымышленной вселенной.
Другой пример — исследования Пола Томаса, который показал, что такие же процессы работают даже на Википедии. Там, несмотря на видимость открытости, статьи часто редактирует довольно узкий круг фанатов, опираясь на ограниченное количество авторитетных источников. Так формируется представление о «единственно верной версии» канона.
Паттерсон сравнивает это с религиозными сообществами, где интерпретацией текстов (например, Библии) занимаются преимущественно представители духовенства, а остальные участники вынуждены обращаться к их трактовкам. Во всех этих случаях возникает проблема «закрытия» смысла, когда коллективный поиск сменяется фиксированной, авторитетной версией.
Но для Паттерсона настоящая «игровая площадка интерпретации» — это пространство, где закрытие смысла невозможно и нежелательно. Главное условие — чтобы процесс коллективного переосмысления не стремился к согласованию или финальной версии правды. Напротив, смысл должен оставаться открытым, обсуждаемым и многозначным. Интерпретация здесь существует ради самой интерпретации, а не ради фиксации канона.
* Экзегеза – это толкование, разъяснение или изложение смысла текста, особенно древних или религиозных.
На этом этапе Паттерсон объясняет, как именно должна быть устроена «игровая площадка интерпретации» — чтобы пространство действительно позволяло участникам вместе конструировать смыслы, не сводя их к жёстким, однозначным трактовкам.
Он отмечает, что такая площадка существует до формирования фиксированной реальности. Это своего рода «песочница», где люди не договариваются о том, какие утверждения или действия считаются правдой, а обсуждают и исследуют возможные интерпретации, опираясь на структуру и содержание самого пространства.
Главная цель такой площадки — максимально откладывать завершение интерпретации. Здесь Паттерсон делает, как он сам говорит, «парадоксальное» уточнение: пространство должно быть устроено так, чтобы мешать интерпретации в привычном понимании этого слова.
Чтобы пояснить эту мысль, он обращается к философу Полю Рикёру и его теории герменевтики (интерпретации текста). По Рикёру, интерпретация — это процесс, в котором человек как бы «примеряет» на себя восприятие мира, заложенное в тексте. Читая или рассматривая текст, человек временно отказывается от собственного взгляда и начинает видеть мир глазами текста. Через это, пишет Рикёр, человек получает «новую способность к самопознанию».
Однако у этого процесса есть финальная стадия. Интерпретация в итоге приводит к ассимиляции, к «актуализации смысла» текста для конкретного читателя. Человек преодолевает дистанцию между собой и текстом, смысл становится частью его внутреннего мира. Рикёр называет это «игровым перевоплощением эго», подчёркивая индивидуальный, личный характер процесса.
Паттерсон отмечает, что здесь есть важный нюанс: интерпретация в таком понимании перестаёт быть коллективным обсуждением или совместным поиском смысла. Это уже не диалог, а личный процесс «присвоения» смысла, который завершает интерпретацию.
Тем не менее, сам Рикёр также говорит о «нарративной идентичности» — процессе, где интерпретация становится коллективной и постоянной. Смысл формируется через бесконечную череду переосмыслений, где один нарратив корректирует или дополняет другой. Рикёр особенно выделяет в этом процессе роль библейских текстов — они, по его мнению, создают огромное поле для интерпретаций и сравнений, где нет жёстких ограничений.
Эта идея, замечает Паттерсон, удивительным образом перекликается с тем, как фанаты работают с вымышленными вселенными. Он ссылается на работы американского философа и культуролога Генри Дженкинса, особенно на книгу Textual Poachers (1992).
Дженкинс анализировал, как фанаты переосмысляют и дополняют любимые тексты, например, сериал Star Trek. Сообщество поклонников постоянно пересматривало старые эпизоды, формируя некий «идеальный», собирательный образ сериала — так называемый мета-текст. Этот мета-текст становится основой для бесконечного фанатского творчества: споров, фанфиков, переосмыслений и художественных экспериментов.
Однако, как подчёркивает Паттерсон, такие сообщества часто стремятся к тому, чтобы зафиксировать некую единую версию смысла. Он ссылается на исследовательницу Лесли Гудман, которая назвала это явление «фантогонизм» (fan-tagonism) — потребность добиться единства понимания вымышленной вселенной.
Другой пример — исследования Пола Томаса, который показал, что такие же процессы работают даже на Википедии. Там, несмотря на видимость открытости, статьи часто редактирует довольно узкий круг фанатов, опираясь на ограниченное количество авторитетных источников. Так формируется представление о «единственно верной версии» канона.
Паттерсон сравнивает это с религиозными сообществами, где интерпретацией текстов (например, Библии) занимаются преимущественно представители духовенства, а остальные участники вынуждены обращаться к их трактовкам. Во всех этих случаях возникает проблема «закрытия» смысла, когда коллективный поиск сменяется фиксированной, авторитетной версией.
Но для Паттерсона настоящая «игровая площадка интерпретации» — это пространство, где закрытие смысла невозможно и нежелательно. Главное условие — чтобы процесс коллективного переосмысления не стремился к согласованию или финальной версии правды. Напротив, смысл должен оставаться открытым, обсуждаемым и многозначным. Интерпретация здесь существует ради самой интерпретации, а не ради фиксации канона.
* Экзегеза – это толкование, разъяснение или изложение смысла текста, особенно древних или религиозных.
Haunted by Genre
В этой части Паттерсон продолжает развивать свою концепцию «игровой площадки интерпретации», обращаясь к работам американского философа и культуролога Генри Дженкинса. Он отмечает, что идея Дженкинса о environmental storytelling — то есть «пространственном повествовании» — помогает понять, как именно пространство может провоцировать коллективную интерпретацию.
Паттерсон ссылается на классическую статью Дженкинса Game Design as Narrative Architecture (2003), где тот выделяет четыре дизайнерские стратегии, с помощью которых видеоигры погружают игроков в нарративный опыт:
Паттерсон особенно останавливается на первом типе — эвокативных пространствах. Дженкинс определяет их как игровые пространства, которые расширяют уже существующий вымышленный мир, опираясь на знания игрока о нём, чтобы «вызывать» этот мир через детали и атмосферу. Например, игра по мотивам Star Wars, которая не пересказывает сюжет фильмов, но создаёт пространство, где игрок узнаёт знакомую вселенную.
Паттерсон подчёркивает важный нюанс: чтобы пространство оставалось именно эвокативным, а не становилось частью линейного повествования, оно должно быть временно отделено от основного нарратива. То есть, события игры не могут напрямую влиять на сюжет фильмов или становиться их продолжением. Всё строится на узнаваемости и намёках, а не на чёткой хронологии.
Далее Паттерсон развивает эту идею и предлагает задуматься о более общем типе эвокативных пространств — таких, что отсылают не к конкретному вымышленному миру (как Star Wars), а к жанру в целом. Он замечает, что Дженкинс вскользь упоминает такую возможность, но не развивает её.
Паттерсон предлагает: если пространство может «вызывать» у зрителя или игрока ассоциации с жанром, не погружая его в конкретный сюжет, то это и есть пример жанрового эвокативного пространства.
В качестве примера он приводит знаменитый аттракцион The Haunted Mansion (в переводе — «Особняк с привидениями») в парках Disney. Аттракцион построен как «тёмное» развлекательное пространство, где гости садятся в вагончики, способные поворачиваться на 360 градусов, и проезжают через серию комнат, оформленных с помощью аниматроники и световых эффектов.
Паттерсон подчёркивает, что аттракцион пользуется огромной популярностью уже более полувека и остаётся объектом пристального фанатского интереса. Он приводит любопытный пример: страница «Особняка с привидениями» в Википедии настолько детализирована (почти 1500 слов только на описание), что прочитать её вслух займёт больше времени, чем прокатиться на самом аттракционе.
Автор сравнивает описание этого аттракциона с другим популярным аттракционом Disney — Pirates of the Caribbean. В описании «Пиратов Карибского моря» подробно рассказывается сюжет: нападение пиратов, имена персонажей, последовательность событий. Это классический пример пространства, встроенного в линейный нарратив.
В отличие от этого, описание «Особняка с привидениями» — это просто список образов и визуальных деталей без связующего сюжета. Например, гости видят портреты, которые превращаются в пугающие версии себя: женщина становится тигрицей, рыцарь — скелетом, корабль — призрачным, другая женщина — Медузой Горгоной. Все эти образы идут друг за другом, но не объединены причинно-следственной связью.
Паттерсон делает вывод: пространство аттракциона построено не как линейный рассказ, а как последовательность образов, каждый из которых отсылает к жанру хоррора, но при этом не складывается в полноценную историю. Посетителю предоставляется возможность самому интерпретировать увиденное, искать смыслы и связи.
Однако, несмотря на эту фрагментарность, фанаты продолжают активно обсуждать и каталогизировать детали аттракциона. Паттерсон считает, что это — признак именно той самой «игровой площадки интерпретации». Пространство, насыщенное визуальными знаками, не предлагает готового нарратива, но требует от зрителя активного вовлечения, поиска связей и интерпретации.
Здесь Паттерсон вспоминает теорию монтажа советского режиссёра Сергей Эйзенштейна. Он описывал монтаж как способ наложения смыслов, где отдельные образы воспринимаются не просто рядом, а как бы один поверх другого, создавая сложное, многослойное значение.
Паттерсон уточняет, что, в отличие от Эйзенштейна, где монтаж ведёт к итоговому синтезу и новой «ясности», пространство «Особняка с привидениями» не предлагает финального смысла. Здесь игра смыслов остаётся открытой, многозначной и требует постоянного переосмысления — как и положено настоящей «игровой площадке интерпретации».
В этой части Паттерсон продолжает развивать свою концепцию «игровой площадки интерпретации», обращаясь к работам американского философа и культуролога Генри Дженкинса. Он отмечает, что идея Дженкинса о environmental storytelling — то есть «пространственном повествовании» — помогает понять, как именно пространство может провоцировать коллективную интерпретацию.
Паттерсон ссылается на классическую статью Дженкинса Game Design as Narrative Architecture (2003), где тот выделяет четыре дизайнерские стратегии, с помощью которых видеоигры погружают игроков в нарративный опыт:
- Эвокативные пространства (evocative spaces);
- Инсценировка историй (enacting stories);
- Встроенные нарративы (embedded narratives);
- Эмерджентные нарративы (emergent narratives).
Паттерсон особенно останавливается на первом типе — эвокативных пространствах. Дженкинс определяет их как игровые пространства, которые расширяют уже существующий вымышленный мир, опираясь на знания игрока о нём, чтобы «вызывать» этот мир через детали и атмосферу. Например, игра по мотивам Star Wars, которая не пересказывает сюжет фильмов, но создаёт пространство, где игрок узнаёт знакомую вселенную.
Паттерсон подчёркивает важный нюанс: чтобы пространство оставалось именно эвокативным, а не становилось частью линейного повествования, оно должно быть временно отделено от основного нарратива. То есть, события игры не могут напрямую влиять на сюжет фильмов или становиться их продолжением. Всё строится на узнаваемости и намёках, а не на чёткой хронологии.
Далее Паттерсон развивает эту идею и предлагает задуматься о более общем типе эвокативных пространств — таких, что отсылают не к конкретному вымышленному миру (как Star Wars), а к жанру в целом. Он замечает, что Дженкинс вскользь упоминает такую возможность, но не развивает её.
Паттерсон предлагает: если пространство может «вызывать» у зрителя или игрока ассоциации с жанром, не погружая его в конкретный сюжет, то это и есть пример жанрового эвокативного пространства.
В качестве примера он приводит знаменитый аттракцион The Haunted Mansion (в переводе — «Особняк с привидениями») в парках Disney. Аттракцион построен как «тёмное» развлекательное пространство, где гости садятся в вагончики, способные поворачиваться на 360 градусов, и проезжают через серию комнат, оформленных с помощью аниматроники и световых эффектов.
Паттерсон подчёркивает, что аттракцион пользуется огромной популярностью уже более полувека и остаётся объектом пристального фанатского интереса. Он приводит любопытный пример: страница «Особняка с привидениями» в Википедии настолько детализирована (почти 1500 слов только на описание), что прочитать её вслух займёт больше времени, чем прокатиться на самом аттракционе.
Автор сравнивает описание этого аттракциона с другим популярным аттракционом Disney — Pirates of the Caribbean. В описании «Пиратов Карибского моря» подробно рассказывается сюжет: нападение пиратов, имена персонажей, последовательность событий. Это классический пример пространства, встроенного в линейный нарратив.
В отличие от этого, описание «Особняка с привидениями» — это просто список образов и визуальных деталей без связующего сюжета. Например, гости видят портреты, которые превращаются в пугающие версии себя: женщина становится тигрицей, рыцарь — скелетом, корабль — призрачным, другая женщина — Медузой Горгоной. Все эти образы идут друг за другом, но не объединены причинно-следственной связью.
Паттерсон делает вывод: пространство аттракциона построено не как линейный рассказ, а как последовательность образов, каждый из которых отсылает к жанру хоррора, но при этом не складывается в полноценную историю. Посетителю предоставляется возможность самому интерпретировать увиденное, искать смыслы и связи.
Однако, несмотря на эту фрагментарность, фанаты продолжают активно обсуждать и каталогизировать детали аттракциона. Паттерсон считает, что это — признак именно той самой «игровой площадки интерпретации». Пространство, насыщенное визуальными знаками, не предлагает готового нарратива, но требует от зрителя активного вовлечения, поиска связей и интерпретации.
Здесь Паттерсон вспоминает теорию монтажа советского режиссёра Сергей Эйзенштейна. Он описывал монтаж как способ наложения смыслов, где отдельные образы воспринимаются не просто рядом, а как бы один поверх другого, создавая сложное, многослойное значение.
Паттерсон уточняет, что, в отличие от Эйзенштейна, где монтаж ведёт к итоговому синтезу и новой «ясности», пространство «Особняка с привидениями» не предлагает финального смысла. Здесь игра смыслов остаётся открытой, многозначной и требует постоянного переосмысления — как и положено настоящей «игровой площадке интерпретации».
Миры внутри миров
Паттерсон продолжает развивать мысль о том, что пространство The Haunted Mansion (Особняка с привидениями) — это не просто линейный маршрут, а сложная сеть миниатюрных миров, каждый из которых функционирует как самостоятельное пространство интерпретации.
Он предлагает рассмотреть наглядный пример — портрет так называемой Werecat Lady (Женщины-кошки), одного из визуальных образов аттракциона. На портрете изображена женщина, а при вспышке света её «истинный облик» проявляется — она превращается в белую тигрицу.
Паттерсон замечает, что это своего рода миниатюрный монтаж двух изображений, внутри которого можно увидеть классическую диалектику смыслов: первое изображение — женщина в трауре, намекающее на утрату и любовь; второе — хищное животное, символ опасности и сексуальности. Такой конфликт мотивов раскрывает старый культурный архетип — скрытая угроза женской сексуальности за внешней скромностью.
Автор подмечает, что хотя внутри самого портрета этот смысл легко считывается, он никак не развивается за пределами изображения. Портрет — замкнутое пространство, где рождается интерпретация, но связей с другими элементами аттракциона по сюжету нет. Получается, что сам Особняк с привидениями становится своеобразным контейнером для множества подобных «миров внутри миров», каждый из которых существует сам по себе, а объединяет их только жанр хоррора.
Здесь Паттерсон говорит о том, что подобное построение пространства — это радикальная суть жанрового эвокативного пространства, о котором шла речь раньше. Особняк не предлагает линейного сюжета, но помещает разные образы в общее жанровое поле, где каждый элемент — это намёк на знакомые культурные традиции, но не часть последовательной истории.
К примеру, образы Женщины-кошки и Летучего Голландца никак не связаны нарративом, но оба вписываются в жанровую атмосферу хоррора, которую формирует всё пространство аттракциона.
Тем не менее, зрители воспринимают это не как хаос, а как пространство, которое требует активной интерпретации. Паттерсон приводит в пример фанатский сайт DoomBuggies.com, где собрано огромное количество информации, историй и интервью о создании и устройстве «Особняка с привидениями». Это показывает, что само пространство аттракциона побуждает к исследованию, переосмыслению и обсуждению.
Далее Паттерсон погружается глубже в визуальные смыслы портрета Женщины-кошки. Он сравнивает её позу и композицию с классическими произведениями западного искусства, в частности:
Паттерсон отмечает, что портрет Женщины-кошки явно отсылает к этой живописной традиции, воспроизводя её композицию и эмоциональные коды. Причём в первоначальной версии аттракциона женщина превращалась не в тигрицу, а в пантеру — более тёмное животное, что визуально усиливало драматизм сцены. Позже это изменили по техническим причинам, чтобы лучше сочетать освещение и цвет.
Таким образом, портрет Женщины-кошки одновременно участвует в жанровом пространстве хоррора и продолжает культурную линию западной живописи, отсылая к мифу о женской сексуальности как скрытой угрозе. Паттерсон подчёркивает, что, несмотря на кажущуюся фрагментарность, такие образы имеют глубокие культурные корни и заслуживают критического анализа.
Кроме того, он напоминает, что подобные пространства требуют особого отношения: они не существуют ради хаоса или бесконечной интерпретации как самоцели. У таких площадок всегда есть дизайн, художественное намерение и даже идеологический подтекст. Например, сам Walt Disney лично одобрял эстетические решения для аттракциона, а значит, пространство несёт в себе не только потенциал интерпретации, но и авторскую позицию.
В конце этой части Паттерсон делает важное замечание: сообщество вокруг таких пространств формируется не только из-за общей любви к образам или жанру, но и за счёт коллективного процесса интерпретации. Люди объединяются, обсуждают, спорят, ищут новые смыслы, и именно это постоянное напряжение и множество возможных трактовок формирует уникальную, живую «игровую площадку интерпретации».
Паттерсон продолжает развивать мысль о том, что пространство The Haunted Mansion (Особняка с привидениями) — это не просто линейный маршрут, а сложная сеть миниатюрных миров, каждый из которых функционирует как самостоятельное пространство интерпретации.
Он предлагает рассмотреть наглядный пример — портрет так называемой Werecat Lady (Женщины-кошки), одного из визуальных образов аттракциона. На портрете изображена женщина, а при вспышке света её «истинный облик» проявляется — она превращается в белую тигрицу.
Паттерсон замечает, что это своего рода миниатюрный монтаж двух изображений, внутри которого можно увидеть классическую диалектику смыслов: первое изображение — женщина в трауре, намекающее на утрату и любовь; второе — хищное животное, символ опасности и сексуальности. Такой конфликт мотивов раскрывает старый культурный архетип — скрытая угроза женской сексуальности за внешней скромностью.
Автор подмечает, что хотя внутри самого портрета этот смысл легко считывается, он никак не развивается за пределами изображения. Портрет — замкнутое пространство, где рождается интерпретация, но связей с другими элементами аттракциона по сюжету нет. Получается, что сам Особняк с привидениями становится своеобразным контейнером для множества подобных «миров внутри миров», каждый из которых существует сам по себе, а объединяет их только жанр хоррора.
Здесь Паттерсон говорит о том, что подобное построение пространства — это радикальная суть жанрового эвокативного пространства, о котором шла речь раньше. Особняк не предлагает линейного сюжета, но помещает разные образы в общее жанровое поле, где каждый элемент — это намёк на знакомые культурные традиции, но не часть последовательной истории.
К примеру, образы Женщины-кошки и Летучего Голландца никак не связаны нарративом, но оба вписываются в жанровую атмосферу хоррора, которую формирует всё пространство аттракциона.
Тем не менее, зрители воспринимают это не как хаос, а как пространство, которое требует активной интерпретации. Паттерсон приводит в пример фанатский сайт DoomBuggies.com, где собрано огромное количество информации, историй и интервью о создании и устройстве «Особняка с привидениями». Это показывает, что само пространство аттракциона побуждает к исследованию, переосмыслению и обсуждению.
Далее Паттерсон погружается глубже в визуальные смыслы портрета Женщины-кошки. Он сравнивает её позу и композицию с классическими произведениями западного искусства, в частности:
- «Венера Урбинская» Тициана (1534) — картина, где обнажённая женщина томно смотрит на зрителя, что исторически интерпретируется как намёк на эротизм.
- «Спящая Венера» Джорджоне (ок. 1510) — ранний пример подобного изображения.
- «Олимпия» Эдуарда Мане (1863) — картина, где женский взгляд становится особенно вызывающим, а образ Венеры переосмысляется как прямой намёк на проституцию.
Паттерсон отмечает, что портрет Женщины-кошки явно отсылает к этой живописной традиции, воспроизводя её композицию и эмоциональные коды. Причём в первоначальной версии аттракциона женщина превращалась не в тигрицу, а в пантеру — более тёмное животное, что визуально усиливало драматизм сцены. Позже это изменили по техническим причинам, чтобы лучше сочетать освещение и цвет.
Таким образом, портрет Женщины-кошки одновременно участвует в жанровом пространстве хоррора и продолжает культурную линию западной живописи, отсылая к мифу о женской сексуальности как скрытой угрозе. Паттерсон подчёркивает, что, несмотря на кажущуюся фрагментарность, такие образы имеют глубокие культурные корни и заслуживают критического анализа.
Кроме того, он напоминает, что подобные пространства требуют особого отношения: они не существуют ради хаоса или бесконечной интерпретации как самоцели. У таких площадок всегда есть дизайн, художественное намерение и даже идеологический подтекст. Например, сам Walt Disney лично одобрял эстетические решения для аттракциона, а значит, пространство несёт в себе не только потенциал интерпретации, но и авторскую позицию.
В конце этой части Паттерсон делает важное замечание: сообщество вокруг таких пространств формируется не только из-за общей любви к образам или жанру, но и за счёт коллективного процесса интерпретации. Люди объединяются, обсуждают, спорят, ищут новые смыслы, и именно это постоянное напряжение и множество возможных трактовок формирует уникальную, живую «игровую площадку интерпретации».
Нарисованный мир
В финальной части статьи Паттерсон подводит к ключевому выводу: «игровая площадка интерпретации» не привязана исключительно к видеоиграм и не является чем-то однозначно положительным. Тем не менее, именно серия Soulsborne — игры японской студии FromSoftware под руководством Хидэтаки Миядзаки — становится, по мнению автора, самым радикальным и выразительным примером такого пространства.
Паттерсон подчёркивает, что вокруг этих игр, начиная с Dark Souls (2011) и до недавнего выхода дополнения Shadow of the Erdtree, сформировалось масштабное фанатское сообщество. Исследователи, такие как Тим Уэлш и Кевин Болл, отмечают: фанаты создают обширные архивы знаний, разрабатывают стратегии, обсуждают лор и детали на фанатских вики и форумах. Само это сообщество, по мнению Паттерсона, — живая модель коллективной интерпретации.
Следуя своей логике, Паттерсон сосредотачивается не на всех аспектах игр, а снова — на картине. Он анализирует пространство Painted World of Ariandel, одного из ключевых локаций Dark Souls III.
Картины, как напоминает Паттерсон, играют особую роль в серии Souls. В первой части был Painted World of Ariamis — огромная картина с изображением замка на фоне снежного пейзажа, внутрь которой мог войти игрок. Во второй части — портрет королевы Нэшандры, способный проклясть персонажа. В третьей части — картина в мире Ариандель и загадочная Художница (The Painter), работающая над полотном.
Мир Ариандель — это буквально «мир внутри мира», пространство, в которое игрок попадает через фрагмент изношенной, разрушающейся картины. Однако внутри его не ждёт безопасное убежище — напротив, он обнаруживает тёмные пещеры, завалы костей и крови. Существо в начале зоны называет это место «холодным, тёмным и очень добрым домом» и предлагает игроку найти там «сладкое, гниющее ложе». Вскоре становится понятно, что этот «дом» насквозь прогнил, а весь мир заражён «гнилью».
Постепенно игрок сталкивается с Сестрой Фриде, лидером этого мира, и Художницей, которая царапает свой стол, пытаясь воссоздать утраченный мир на картине. В финале зоны Художница говорит:
«Я хочу нарисовать картину. Холодное, тёмное и очень доброе место. Однажды это станет чьим-то домом. Именно поэтому мне нужно увидеть огонь».
Паттерсон подчёркивает, что в этих словах заложено глубокое противоречие: Художница не описывает существующий мир, она говорит о намерении создать новый, идеальный, но такой же «холодный и добрый» мир, каким был задуман Ариандель, но так и не стал.
Картина, над которой она работает, напоминает работы американского художника Роберта Раушенберга — его знаменитая «Белая живопись» (1951), где пустая поверхность становится фоном для постоянно меняющихся теней, бликов и отражений. Картина Художницы почти пуста, с неясными красноватыми пятнами по краям, что оставляет пространство для бесконечной интерпретации.
Паттерсон отмечает: эта картина — уменьшенная версия всей «игровой площадки интерпретации». Она воплощает ключевой принцип такого пространства: отсутствие готового смысла, провоцирование обсуждения, открытость для коллективного смыслопорождения.
Неудивительно, что фанатские дискуссии вокруг картины не стихают. Игроки спорят о её значении, ищут отсылки к другим играм FromSoftware — Elden Ring, Bloodborne, Sekiro. Кто-то видит в картине будущие локации, кто-то — намёки на связи с персонажами. Но главное, подчеркивает Паттерсон, — это не готовые ответы, а сам процесс совместного воображения.
Игры серии Souls сознательно культивируют этот процесс. Когда в игре говорится:
«Когда мир гниёт, мы сжигаем его. Ради следующего мира»,
Паттерсон видит в этом не просто внутриигровую философию, а метафору художественного акта и коллективного переосмысления.
Важный символ серии — огонь — приобретает множество значений: это и вдохновение, и разрушение, и знание. Паттерсон связывает это с теорией революционного театра Эрвина Пискатора, о которой шла речь в начале статьи. Как актёр, по мысли Пискатора, не должен полностью сливаться с ролью, но и не может быть отстранён, так и игрок или зритель не должны замыкать интерпретацию в жёсткие рамки.
Огонь, по Паттерсону, — это не истина и не завершение, а процесс осознания, напряжённая зона между незнанием и догматизмом. Искусство должно пробуждать зрителя, но не «сжигать» его окончательным смыслом. Поэтому игровая площадка интерпретации — пространство, где можно «играть с огнём», не превращая результат в единственно верный ответ.
Завершая статью, Паттерсон подчёркивает: радикальность видеоигр вроде Dark Souls в том, что они стирают границу между игроком и зрителем. Игровое пространство превращается в современную версию театра — почти безграничную по числу участников, объединяющую геймплей, обсуждения, фанатские теории, визуальные интерпретации.
Игрок становится одновременно исполнителем, интерпретатором и зрителем. И если театр или революционное сообщество могли объединять лишь ограниченное число людей, то «игровая площадка интерпретации» видеоигр — пространство почти безграничное, где каждый может играть свою роль в коллективном осмыслении мира.
В финальной части статьи Паттерсон подводит к ключевому выводу: «игровая площадка интерпретации» не привязана исключительно к видеоиграм и не является чем-то однозначно положительным. Тем не менее, именно серия Soulsborne — игры японской студии FromSoftware под руководством Хидэтаки Миядзаки — становится, по мнению автора, самым радикальным и выразительным примером такого пространства.
Паттерсон подчёркивает, что вокруг этих игр, начиная с Dark Souls (2011) и до недавнего выхода дополнения Shadow of the Erdtree, сформировалось масштабное фанатское сообщество. Исследователи, такие как Тим Уэлш и Кевин Болл, отмечают: фанаты создают обширные архивы знаний, разрабатывают стратегии, обсуждают лор и детали на фанатских вики и форумах. Само это сообщество, по мнению Паттерсона, — живая модель коллективной интерпретации.
Следуя своей логике, Паттерсон сосредотачивается не на всех аспектах игр, а снова — на картине. Он анализирует пространство Painted World of Ariandel, одного из ключевых локаций Dark Souls III.
Картины, как напоминает Паттерсон, играют особую роль в серии Souls. В первой части был Painted World of Ariamis — огромная картина с изображением замка на фоне снежного пейзажа, внутрь которой мог войти игрок. Во второй части — портрет королевы Нэшандры, способный проклясть персонажа. В третьей части — картина в мире Ариандель и загадочная Художница (The Painter), работающая над полотном.
Мир Ариандель — это буквально «мир внутри мира», пространство, в которое игрок попадает через фрагмент изношенной, разрушающейся картины. Однако внутри его не ждёт безопасное убежище — напротив, он обнаруживает тёмные пещеры, завалы костей и крови. Существо в начале зоны называет это место «холодным, тёмным и очень добрым домом» и предлагает игроку найти там «сладкое, гниющее ложе». Вскоре становится понятно, что этот «дом» насквозь прогнил, а весь мир заражён «гнилью».
Постепенно игрок сталкивается с Сестрой Фриде, лидером этого мира, и Художницей, которая царапает свой стол, пытаясь воссоздать утраченный мир на картине. В финале зоны Художница говорит:
«Я хочу нарисовать картину. Холодное, тёмное и очень доброе место. Однажды это станет чьим-то домом. Именно поэтому мне нужно увидеть огонь».
Паттерсон подчёркивает, что в этих словах заложено глубокое противоречие: Художница не описывает существующий мир, она говорит о намерении создать новый, идеальный, но такой же «холодный и добрый» мир, каким был задуман Ариандель, но так и не стал.
Картина, над которой она работает, напоминает работы американского художника Роберта Раушенберга — его знаменитая «Белая живопись» (1951), где пустая поверхность становится фоном для постоянно меняющихся теней, бликов и отражений. Картина Художницы почти пуста, с неясными красноватыми пятнами по краям, что оставляет пространство для бесконечной интерпретации.
Паттерсон отмечает: эта картина — уменьшенная версия всей «игровой площадки интерпретации». Она воплощает ключевой принцип такого пространства: отсутствие готового смысла, провоцирование обсуждения, открытость для коллективного смыслопорождения.
Неудивительно, что фанатские дискуссии вокруг картины не стихают. Игроки спорят о её значении, ищут отсылки к другим играм FromSoftware — Elden Ring, Bloodborne, Sekiro. Кто-то видит в картине будущие локации, кто-то — намёки на связи с персонажами. Но главное, подчеркивает Паттерсон, — это не готовые ответы, а сам процесс совместного воображения.
Игры серии Souls сознательно культивируют этот процесс. Когда в игре говорится:
«Когда мир гниёт, мы сжигаем его. Ради следующего мира»,
Паттерсон видит в этом не просто внутриигровую философию, а метафору художественного акта и коллективного переосмысления.
Важный символ серии — огонь — приобретает множество значений: это и вдохновение, и разрушение, и знание. Паттерсон связывает это с теорией революционного театра Эрвина Пискатора, о которой шла речь в начале статьи. Как актёр, по мысли Пискатора, не должен полностью сливаться с ролью, но и не может быть отстранён, так и игрок или зритель не должны замыкать интерпретацию в жёсткие рамки.
Огонь, по Паттерсону, — это не истина и не завершение, а процесс осознания, напряжённая зона между незнанием и догматизмом. Искусство должно пробуждать зрителя, но не «сжигать» его окончательным смыслом. Поэтому игровая площадка интерпретации — пространство, где можно «играть с огнём», не превращая результат в единственно верный ответ.
Завершая статью, Паттерсон подчёркивает: радикальность видеоигр вроде Dark Souls в том, что они стирают границу между игроком и зрителем. Игровое пространство превращается в современную версию театра — почти безграничную по числу участников, объединяющую геймплей, обсуждения, фанатские теории, визуальные интерпретации.
Игрок становится одновременно исполнителем, интерпретатором и зрителем. И если театр или революционное сообщество могли объединять лишь ограниченное число людей, то «игровая площадка интерпретации» видеоигр — пространство почти безграничное, где каждый может играть свою роль в коллективном осмыслении мира.
Заключение
В финале своей работы Паттерсон подводит итог рассуждениям о «игровой площадке интерпретации». Он объясняет, что постарался показать гибкость и полезность этой концепции — понимание пространства, которое не только организует нарратив, но и провоцирует формирование сообщества, вовлечённого в интерпретацию.
При этом Паттерсон подчёркивает: он не утверждает, что подобная структура — новая или утопическая. Напротив, пример Особняка с привидениями ясно показывает, что такие пространства могут не только открывать новые возможности для мышления и коллективного осмысления, но и служить инструментом эксплуатации.
Он напоминает, что доступ в Disney-парк стоит около 100 долларов в день, а всё, что происходит вокруг аттракциона, встроено в гигантскую коммерческую систему. Сообщество поклонников «Особняка» не только платит за доступ к пространству, но и невольно создаёт дополнительную ценность для корпорации — обсуждения, фанатские материалы, новые смыслы. Всё это становится частью маркетинга и прибыли Disney, хотя труд фанатов не оплачивается.
Таким образом, «игровая площадка интерпретации», несмотря на свой потенциал для творчества и коллективного опыта, всегда несёт в себе опасность — стать зоной разрядки социального напряжения вместо реального действия в мире.
Тем не менее, Паттерсон замечает, что видеоигры как медиум обладают особым потенциалом. В отличие от аттракционов, они гораздо лучше «выставляют напоказ» свои собственные эстетические границы и механизмы. Игрок осознаёт, что его участие — это не просто потребление, а активное действие.
Паттерсон подчёркивает, что критически важно вырабатывать язык, который позволит осмысленно описывать такие пространства и анализировать их границы. Без этого эстетическое пространство может превратиться в ловушку, изолирующую человека от реальности.
Автор завершает статью ироничным, но серьёзным предупреждением: в конечном счёте и академия — научное сообщество — тоже является «игровой площадкой интерпретации». Она может как критиковать, так и сама подпасть под те же механизмы изоляции, эксплуатации и утраты политического потенциала.
Паттерсон пишет:
В финале своей работы Паттерсон подводит итог рассуждениям о «игровой площадке интерпретации». Он объясняет, что постарался показать гибкость и полезность этой концепции — понимание пространства, которое не только организует нарратив, но и провоцирует формирование сообщества, вовлечённого в интерпретацию.
При этом Паттерсон подчёркивает: он не утверждает, что подобная структура — новая или утопическая. Напротив, пример Особняка с привидениями ясно показывает, что такие пространства могут не только открывать новые возможности для мышления и коллективного осмысления, но и служить инструментом эксплуатации.
Он напоминает, что доступ в Disney-парк стоит около 100 долларов в день, а всё, что происходит вокруг аттракциона, встроено в гигантскую коммерческую систему. Сообщество поклонников «Особняка» не только платит за доступ к пространству, но и невольно создаёт дополнительную ценность для корпорации — обсуждения, фанатские материалы, новые смыслы. Всё это становится частью маркетинга и прибыли Disney, хотя труд фанатов не оплачивается.
Таким образом, «игровая площадка интерпретации», несмотря на свой потенциал для творчества и коллективного опыта, всегда несёт в себе опасность — стать зоной разрядки социального напряжения вместо реального действия в мире.
Тем не менее, Паттерсон замечает, что видеоигры как медиум обладают особым потенциалом. В отличие от аттракционов, они гораздо лучше «выставляют напоказ» свои собственные эстетические границы и механизмы. Игрок осознаёт, что его участие — это не просто потребление, а активное действие.
Паттерсон подчёркивает, что критически важно вырабатывать язык, который позволит осмысленно описывать такие пространства и анализировать их границы. Без этого эстетическое пространство может превратиться в ловушку, изолирующую человека от реальности.
Автор завершает статью ироничным, но серьёзным предупреждением: в конечном счёте и академия — научное сообщество — тоже является «игровой площадкой интерпретации». Она может как критиковать, так и сама подпасть под те же механизмы изоляции, эксплуатации и утраты политического потенциала.
Паттерсон пишет:
«Будь то изменчивые стены Особняка с привидениями, сгустившееся время Dark Souls или башни из слоновой кости академического сообщества — мы должны быть осторожны, чтобы не оказаться в ловушке собственных Нарисованных миров».
Источник: Jonathan W. Patterson, A Beginner's Guide to Painted Worlds: The Haunted Mansion, Dark Souls III, and the Playground of Interpretation. In: Proceedings of the Digital Games Research Association Conference (DiGRA), 2024.
Доступно онлайн: https://dl.digra.org/index.php/dl/article/view/2238
Доступно онлайн: https://dl.digra.org/index.php/dl/article/view/2238