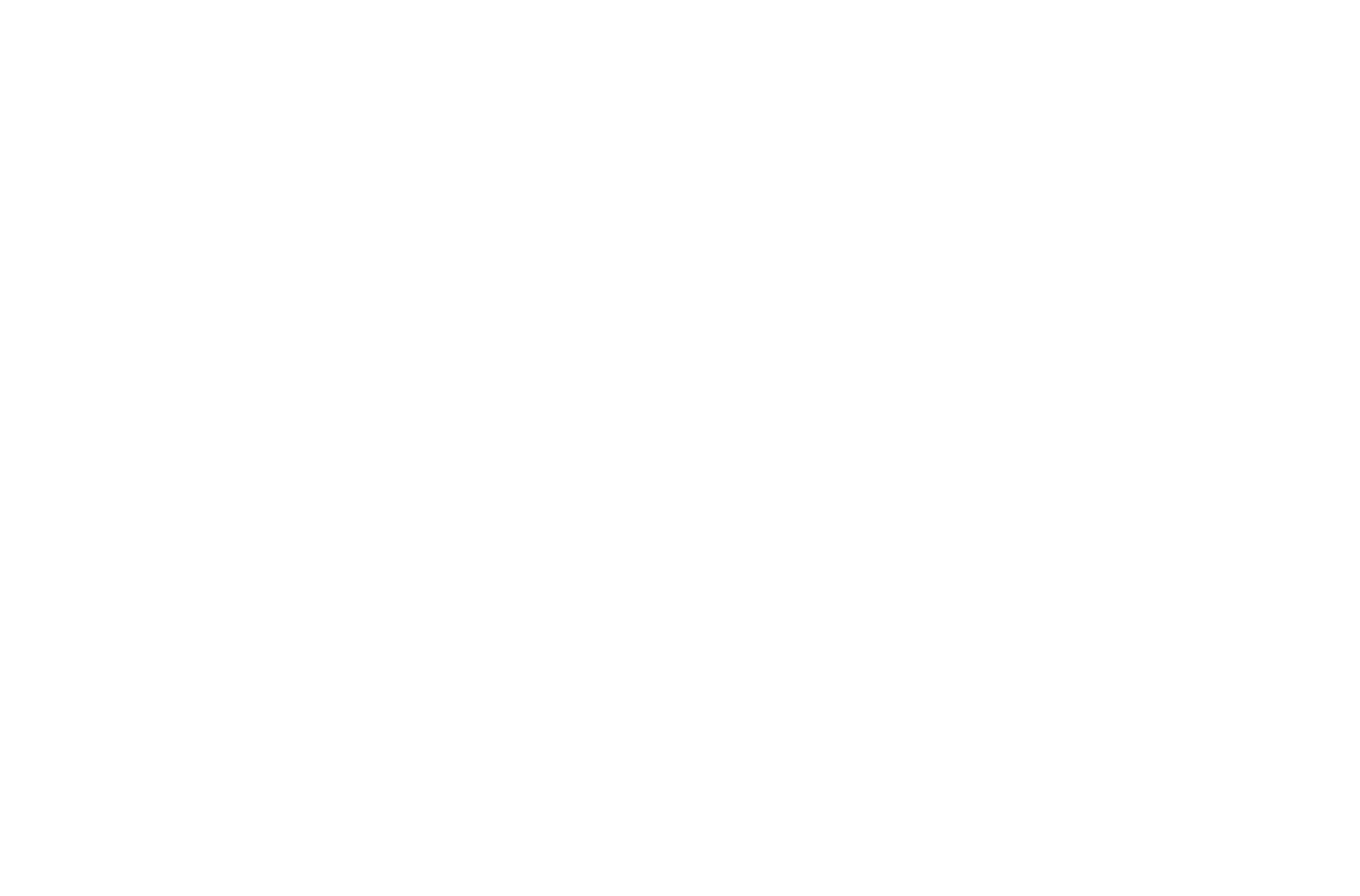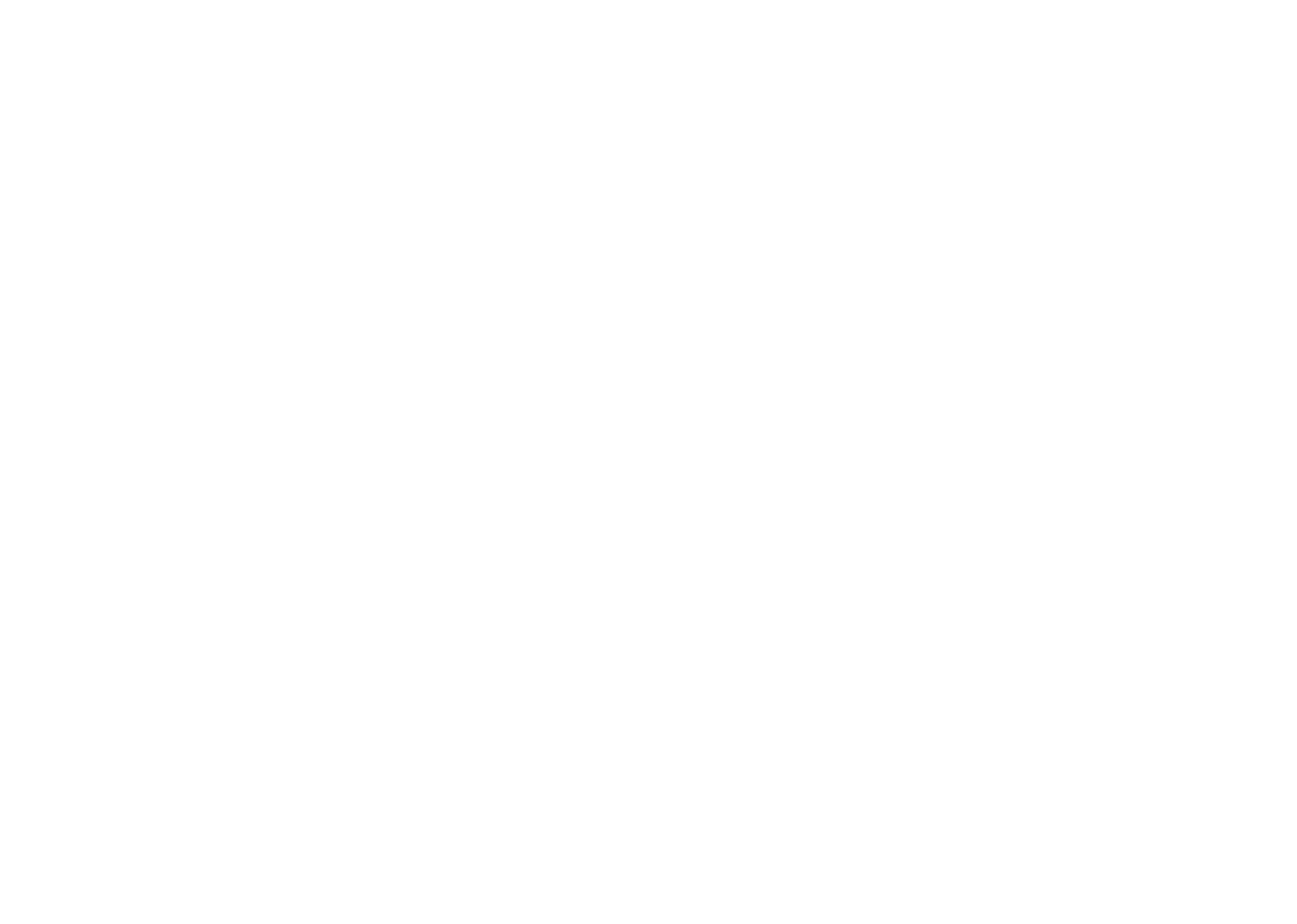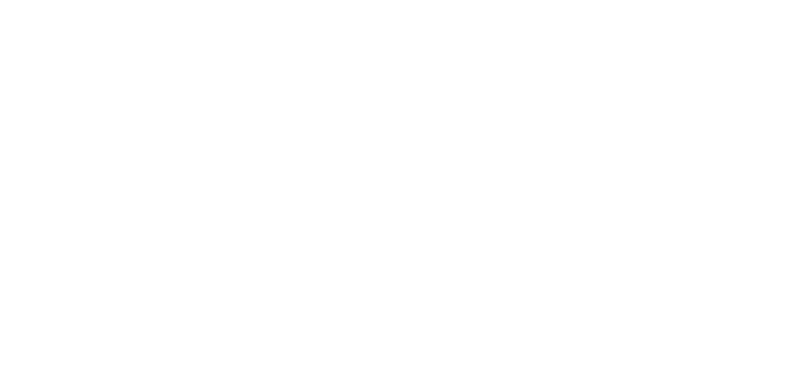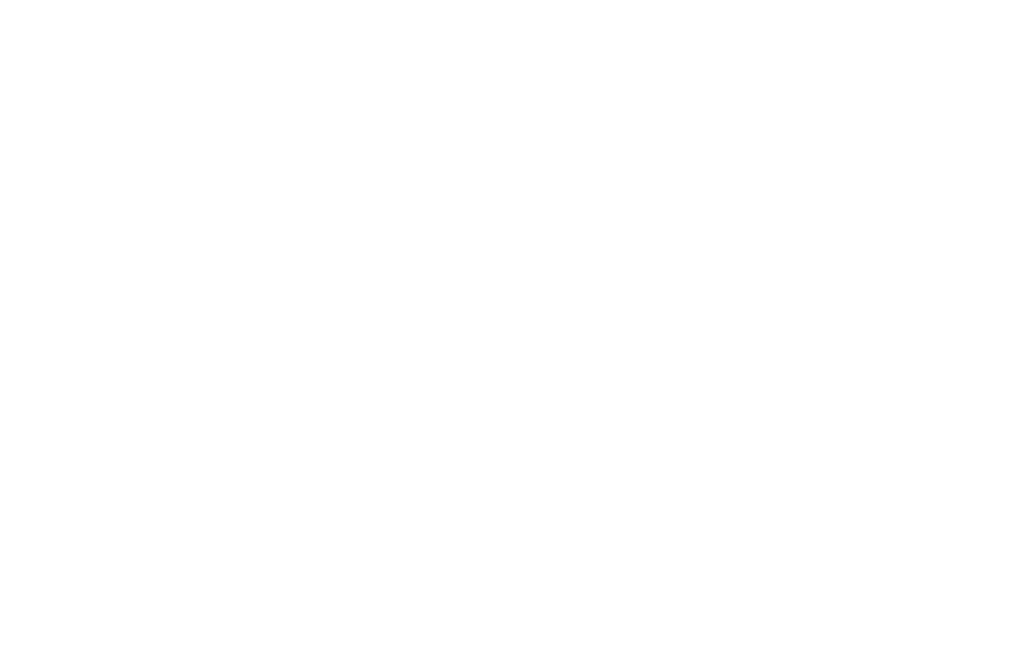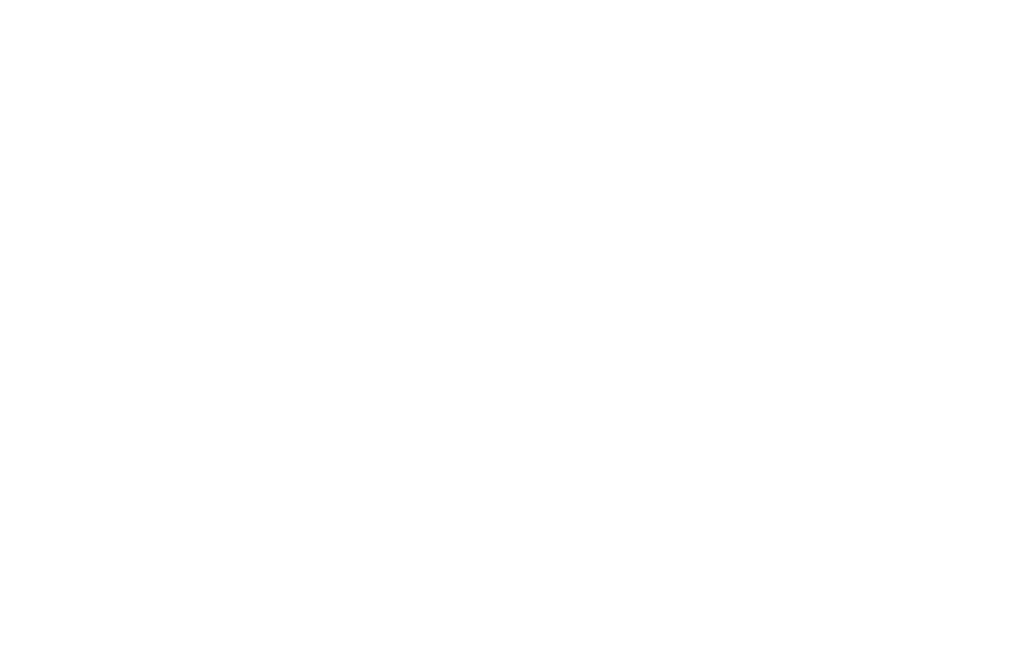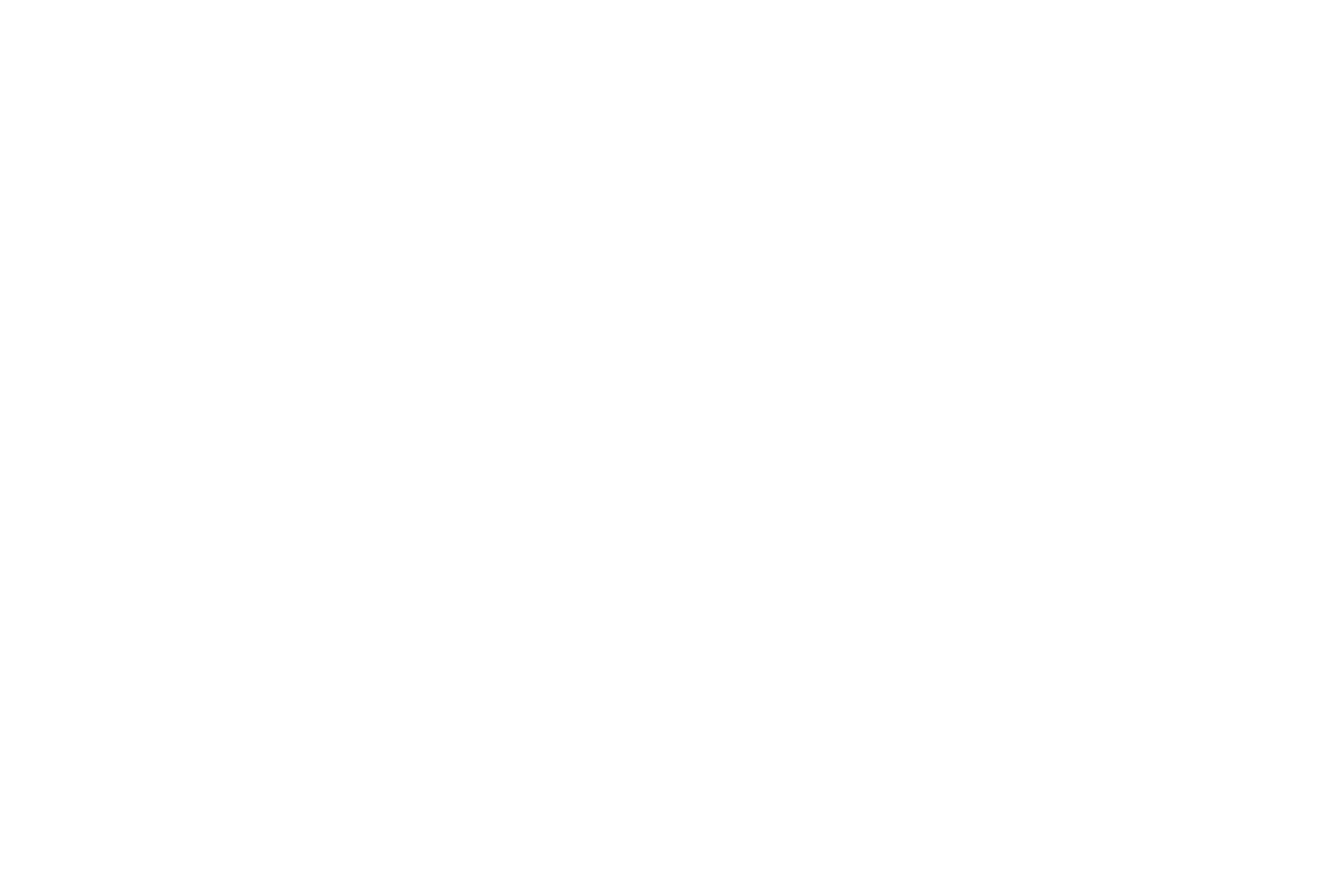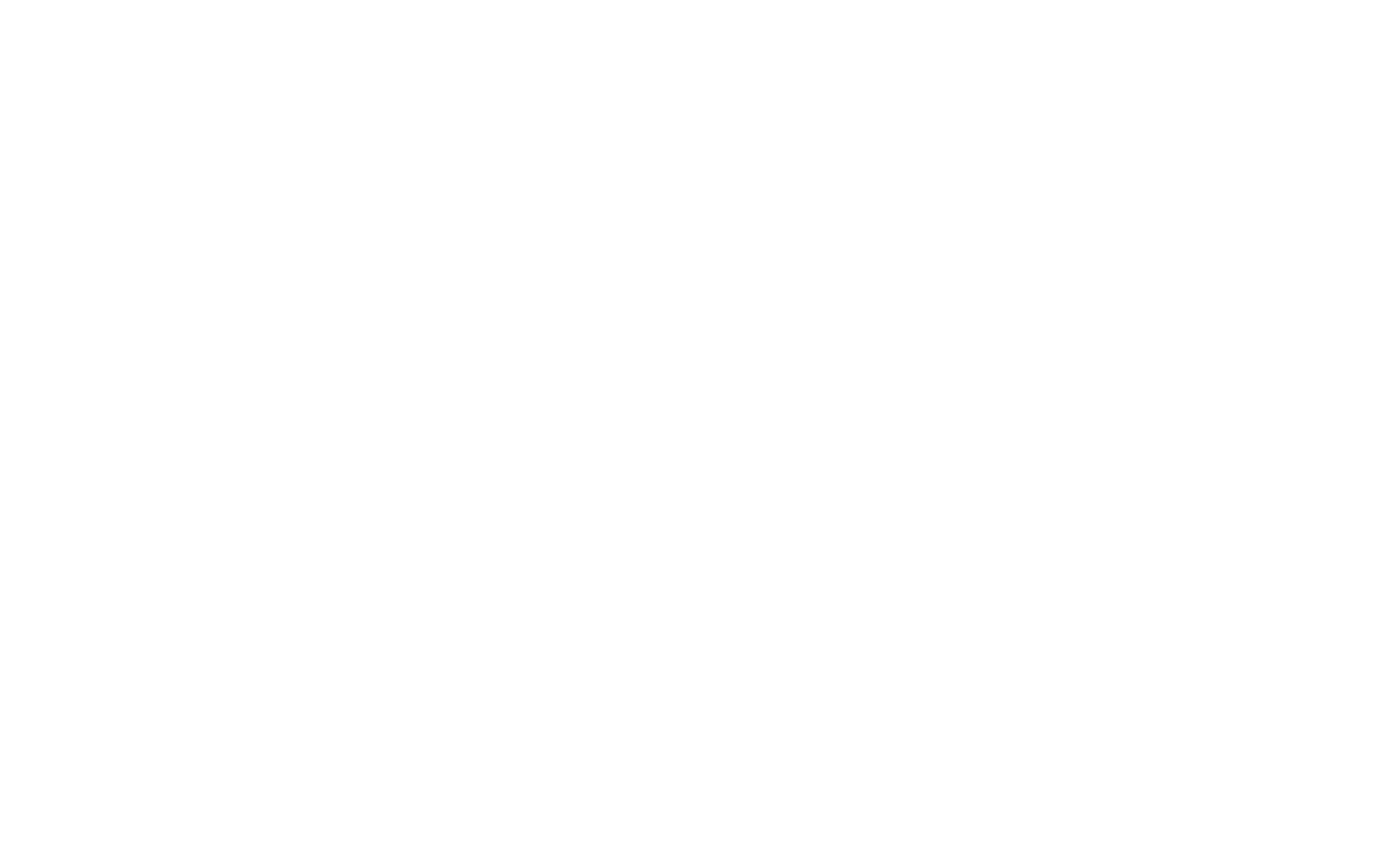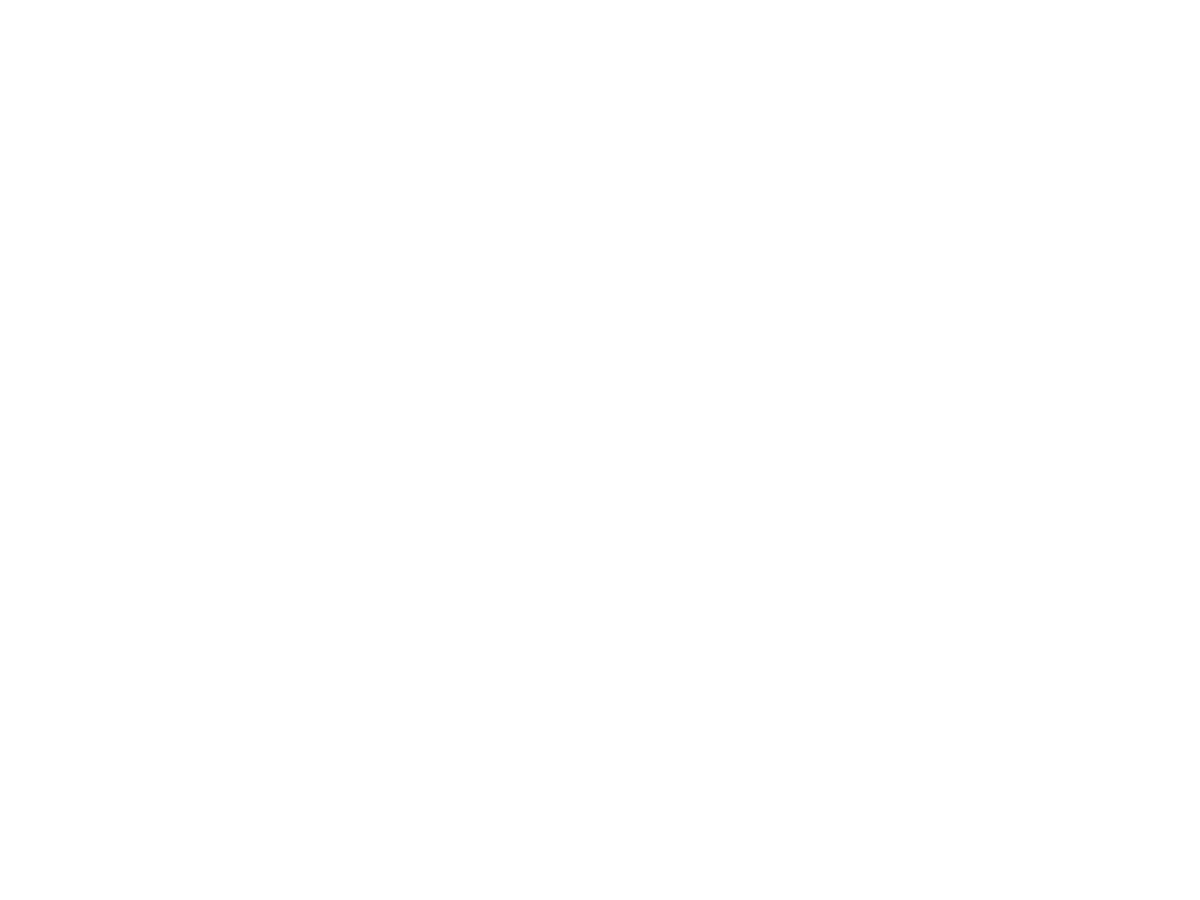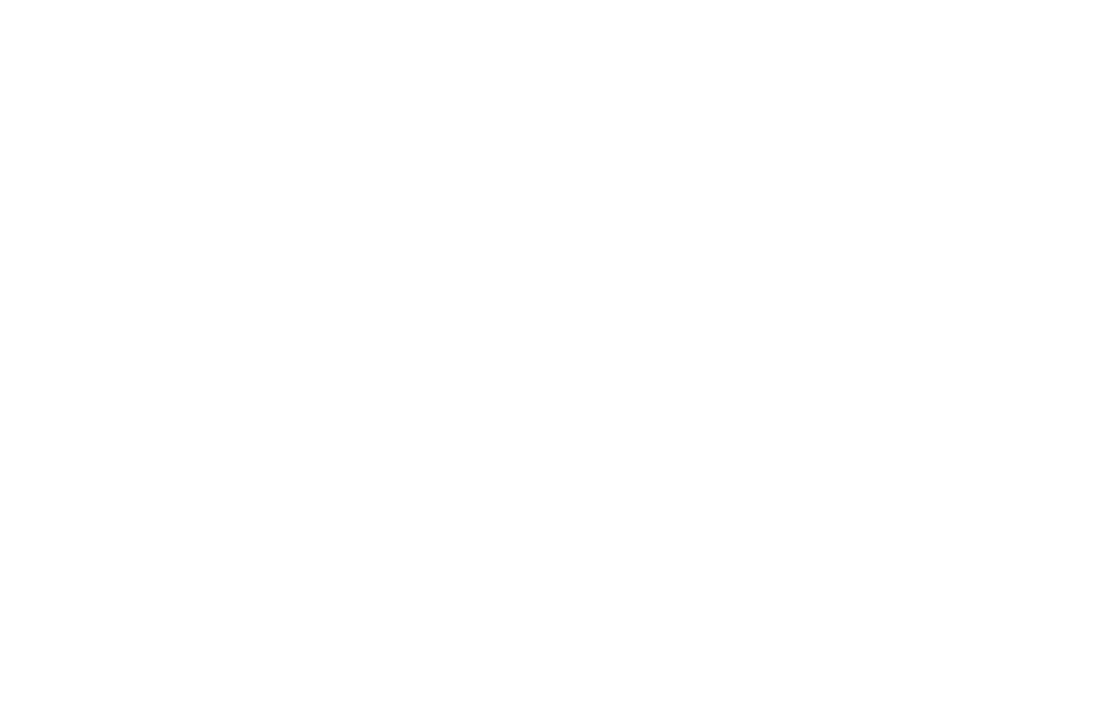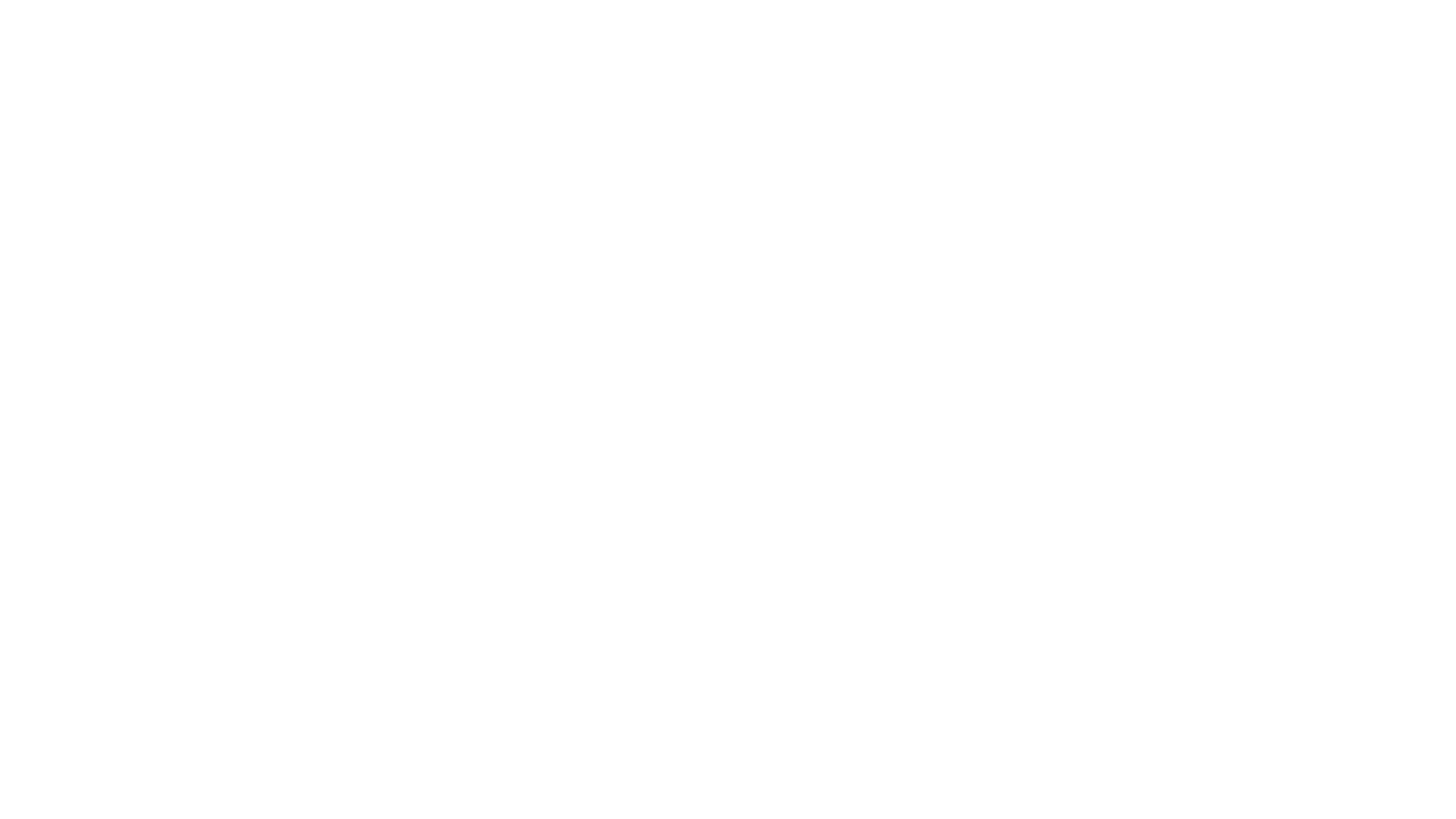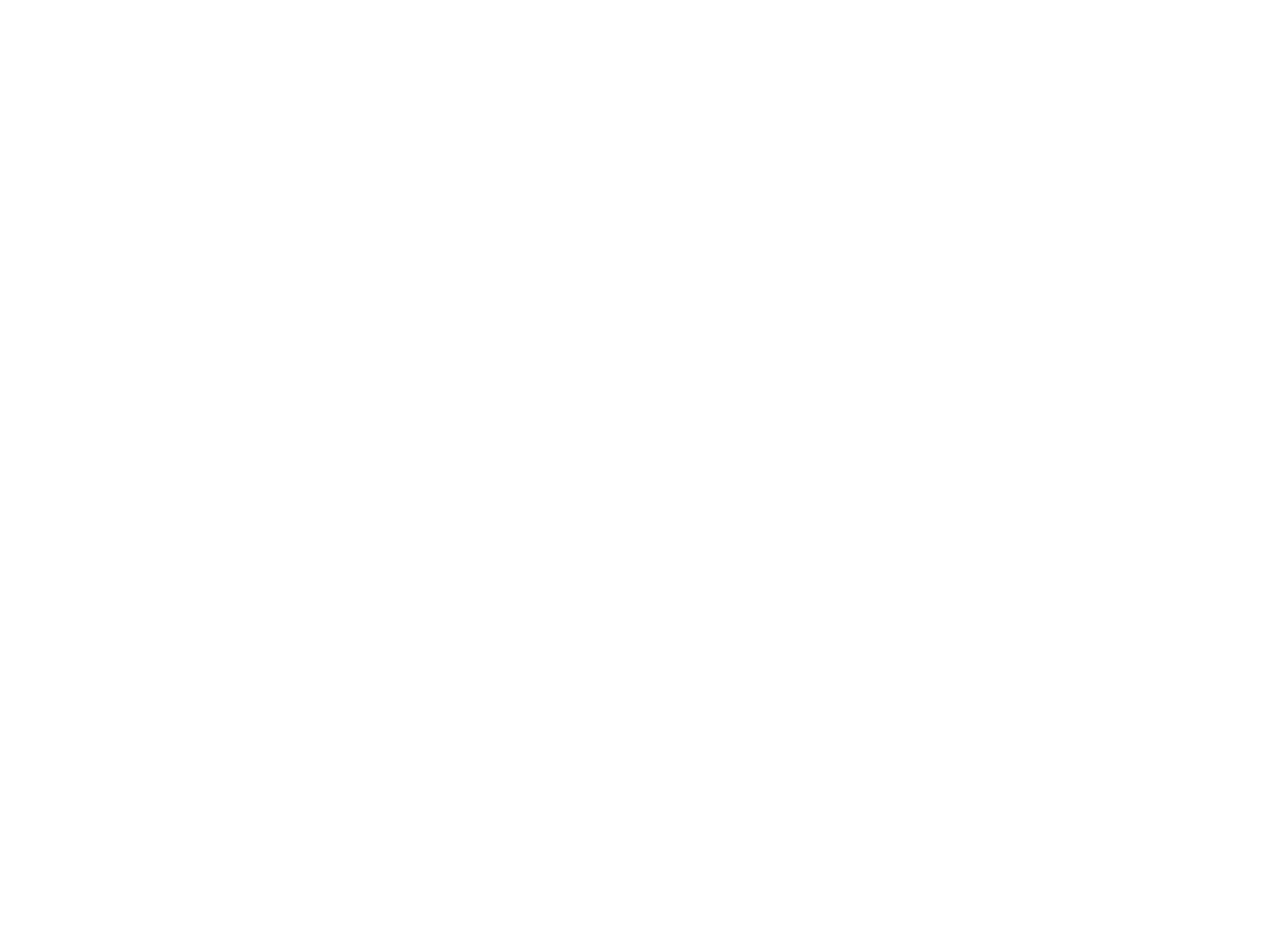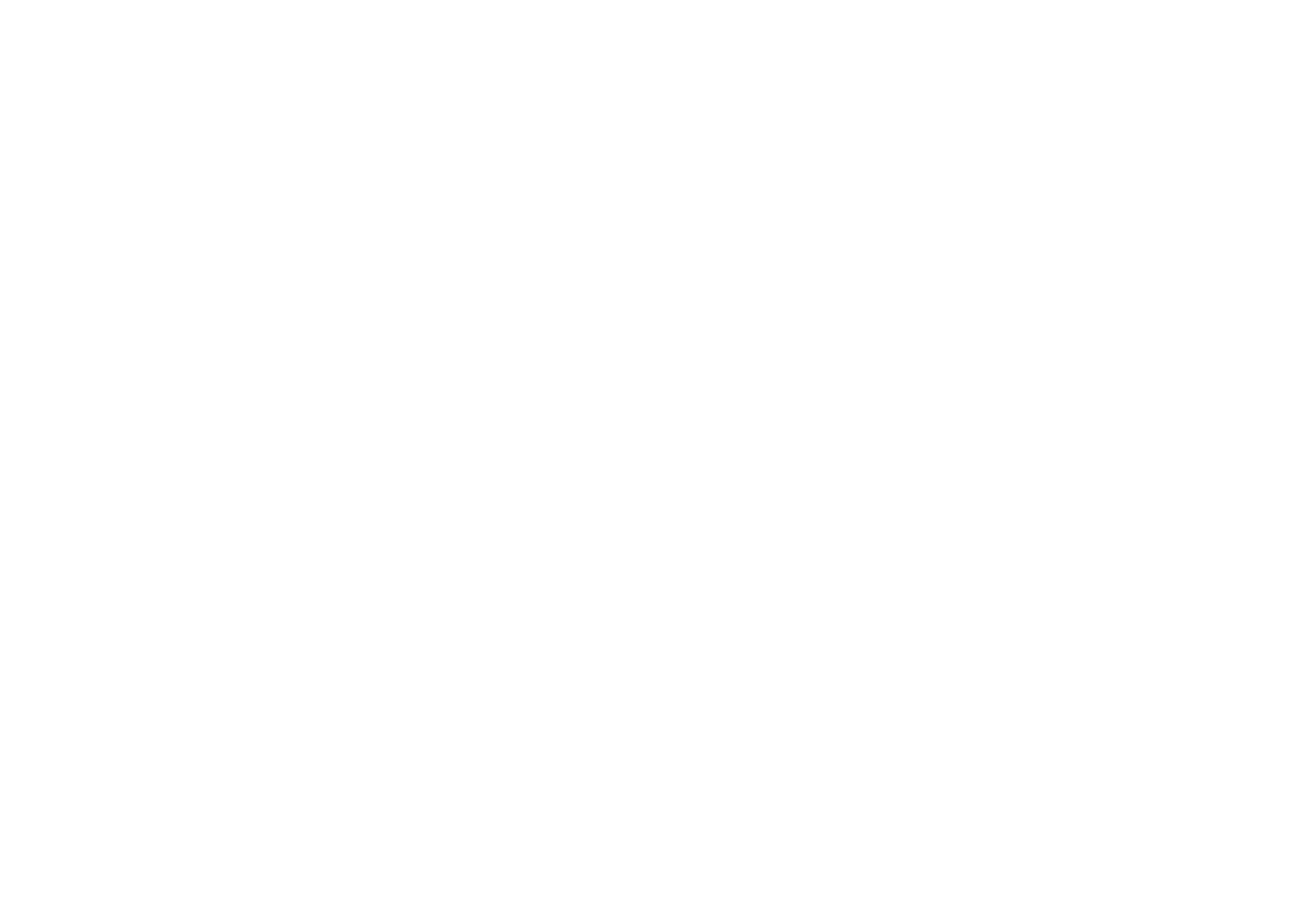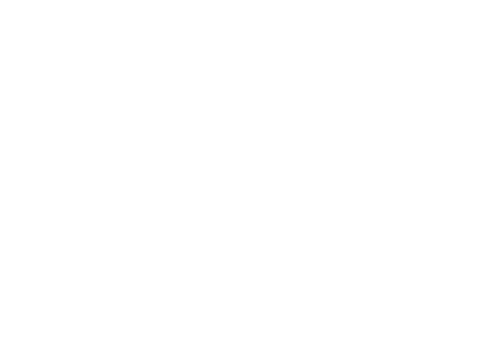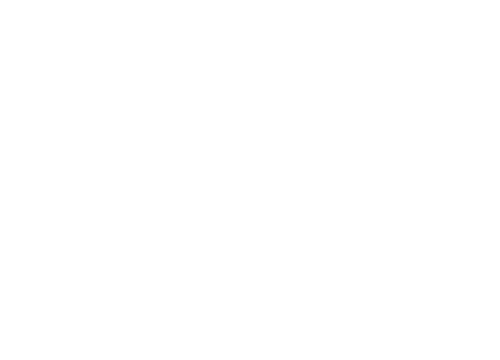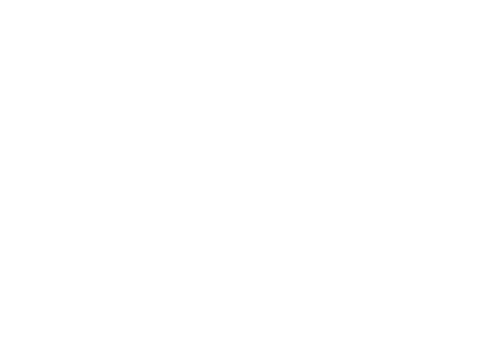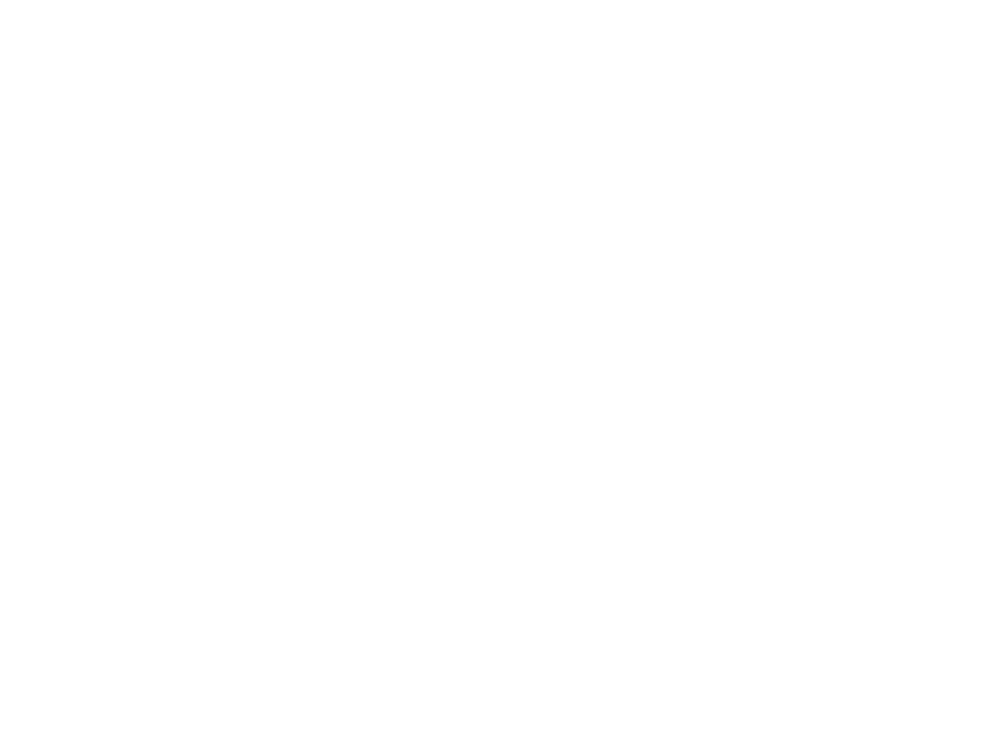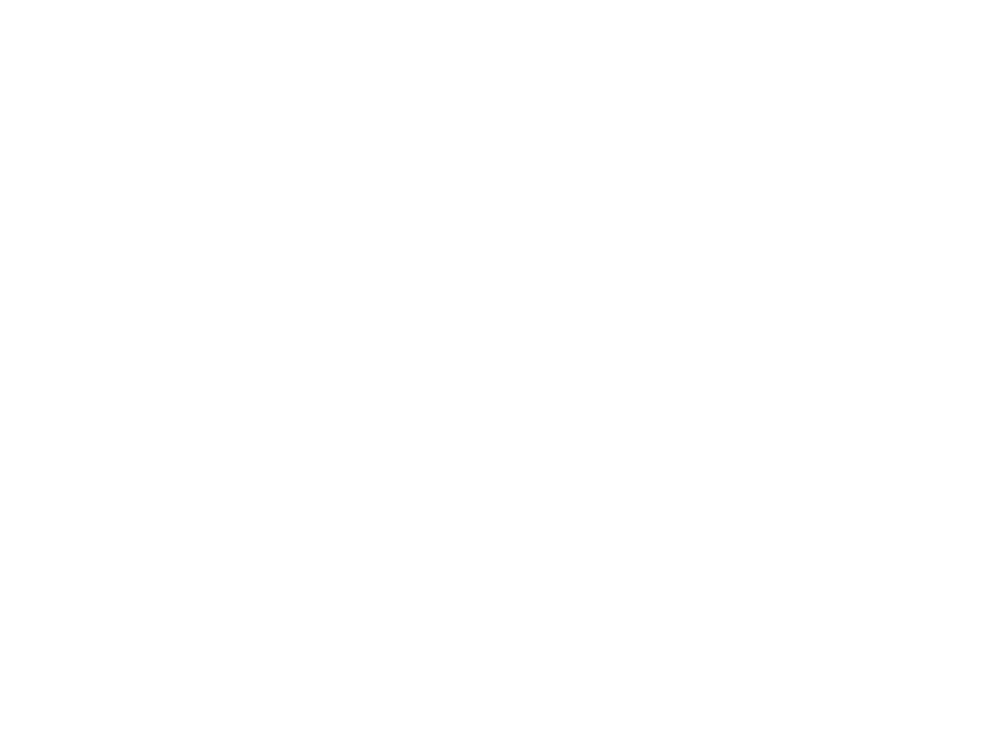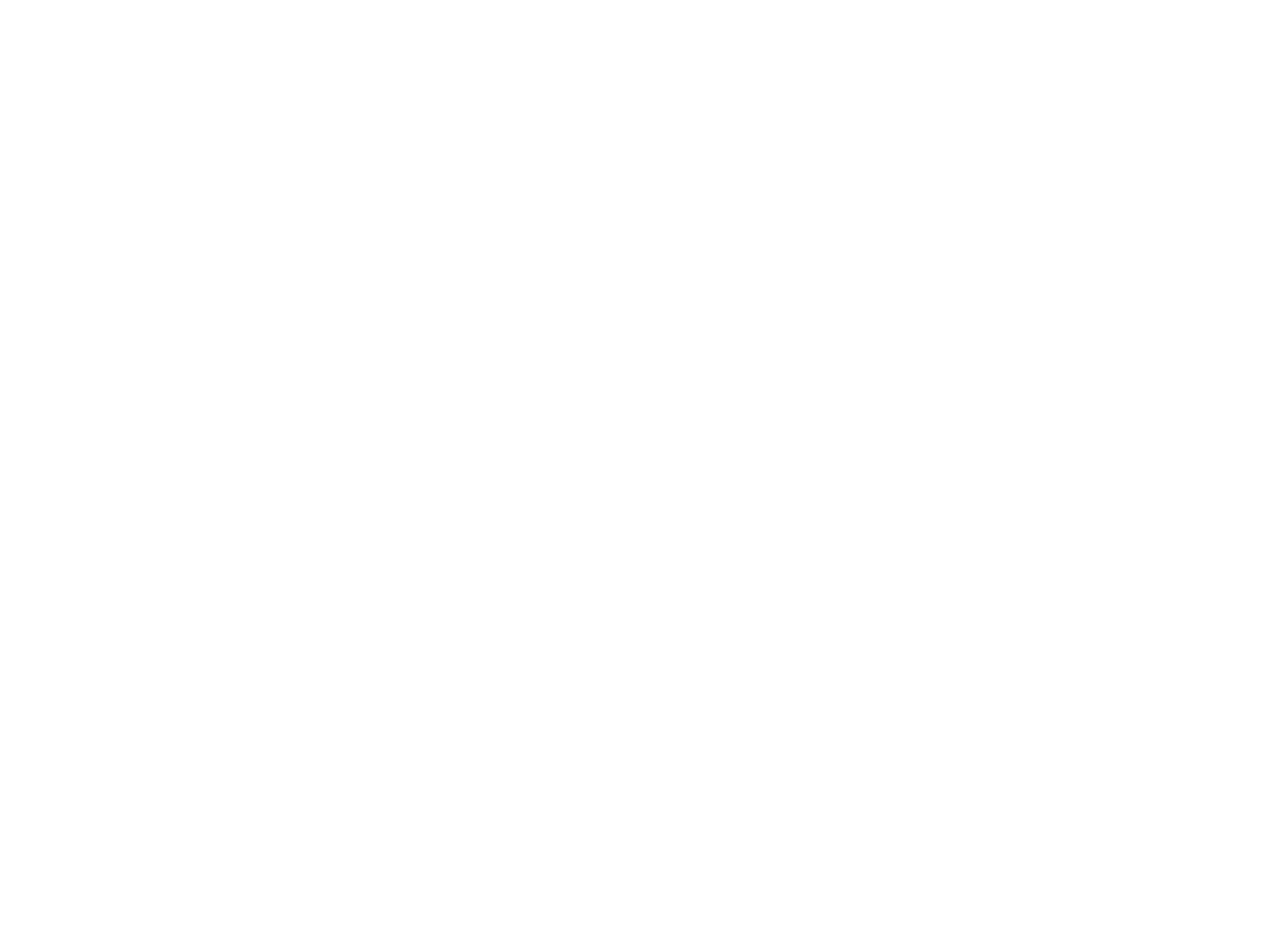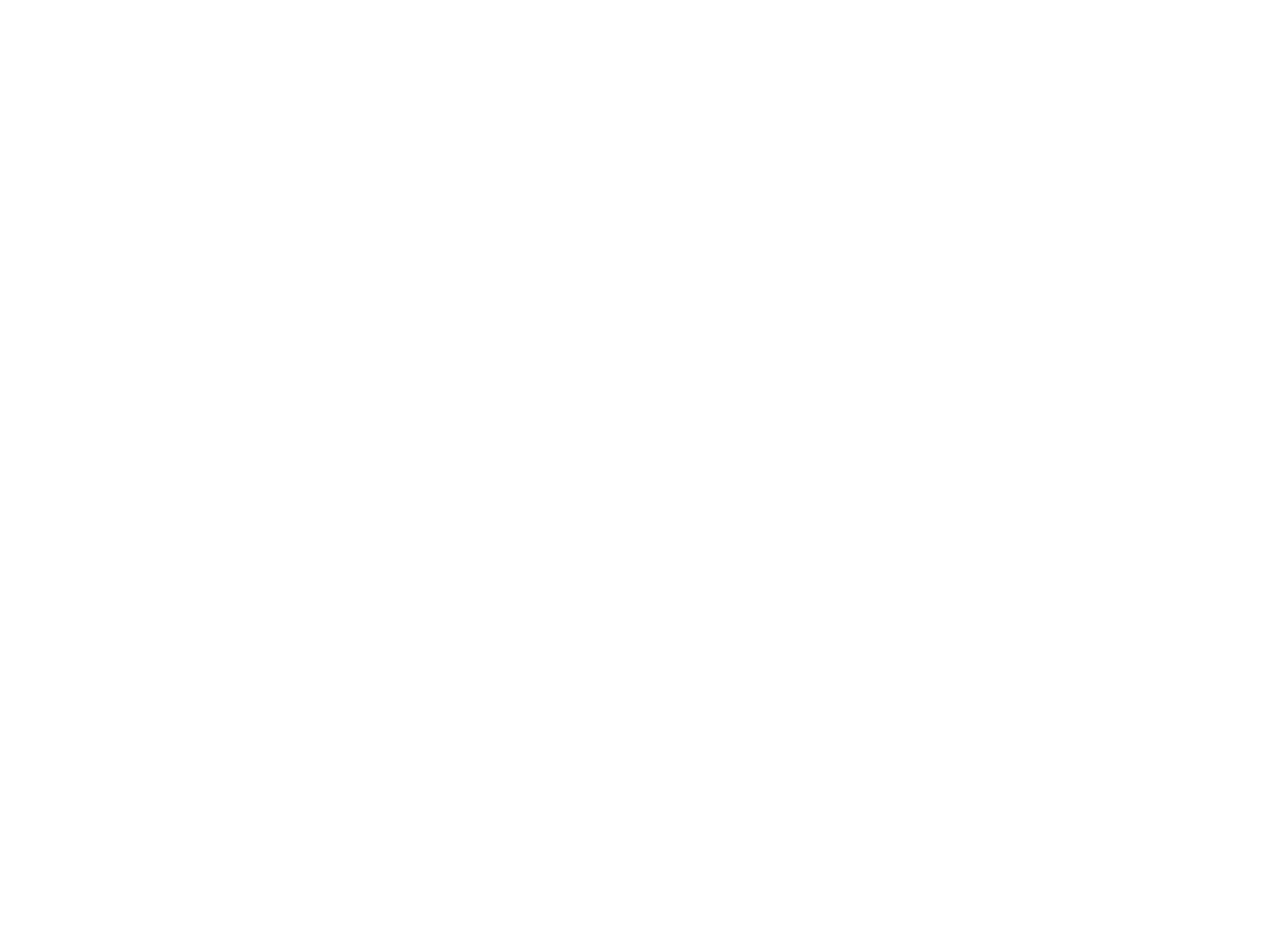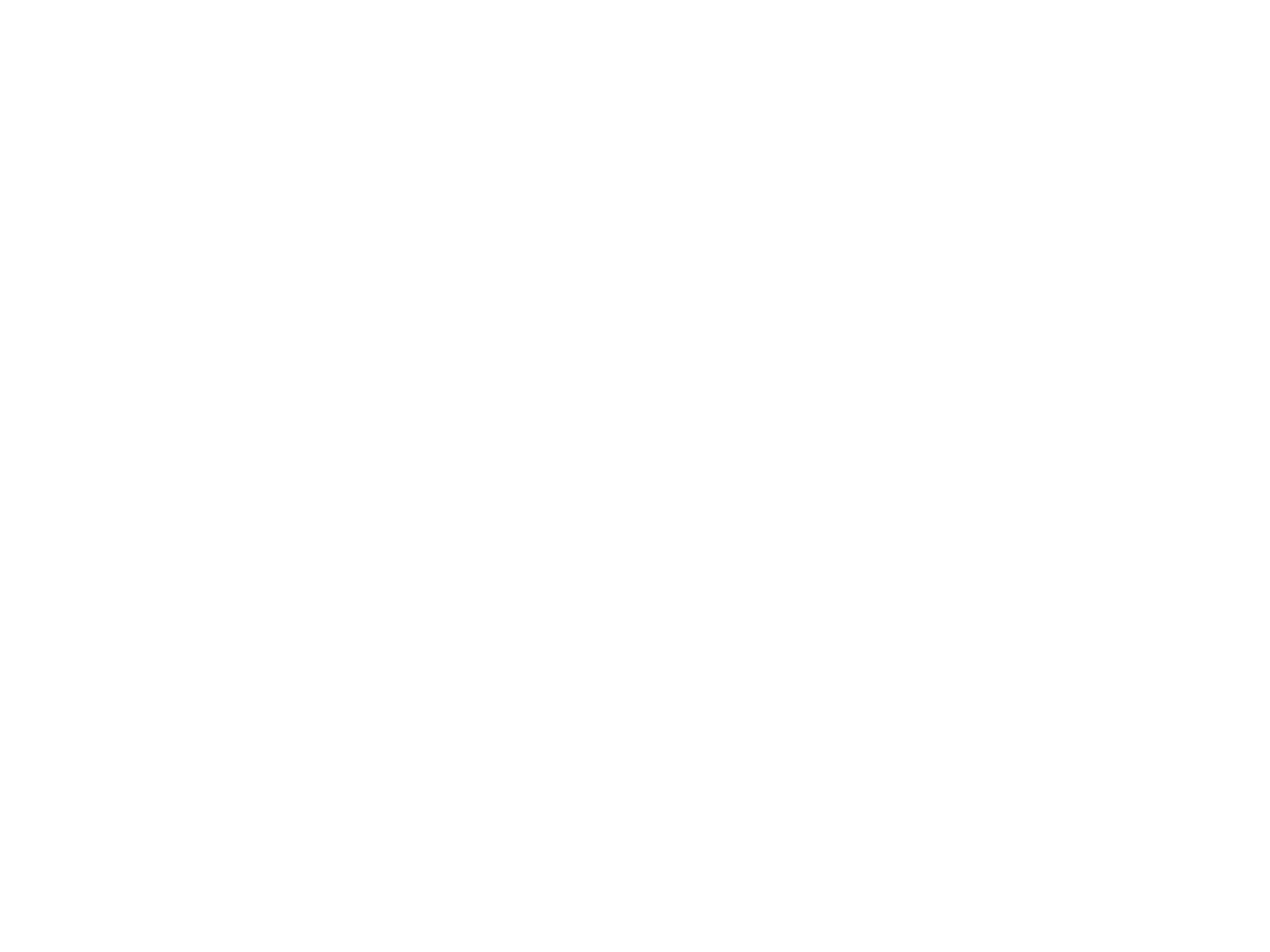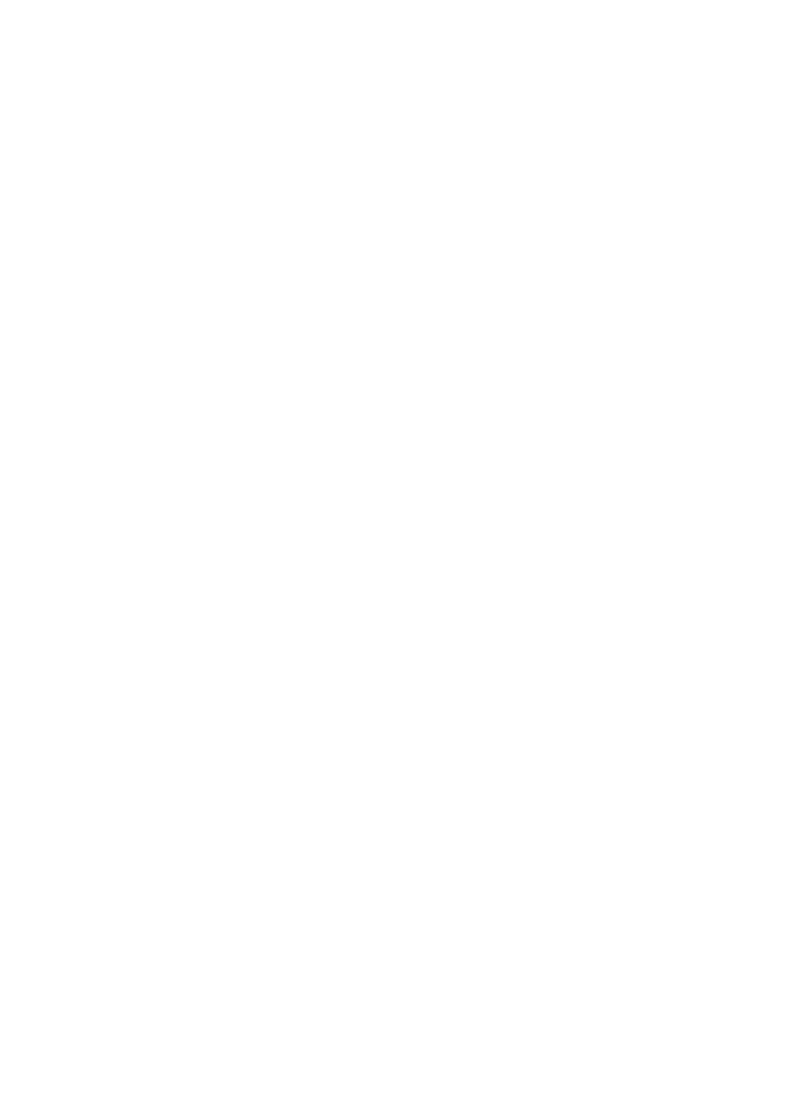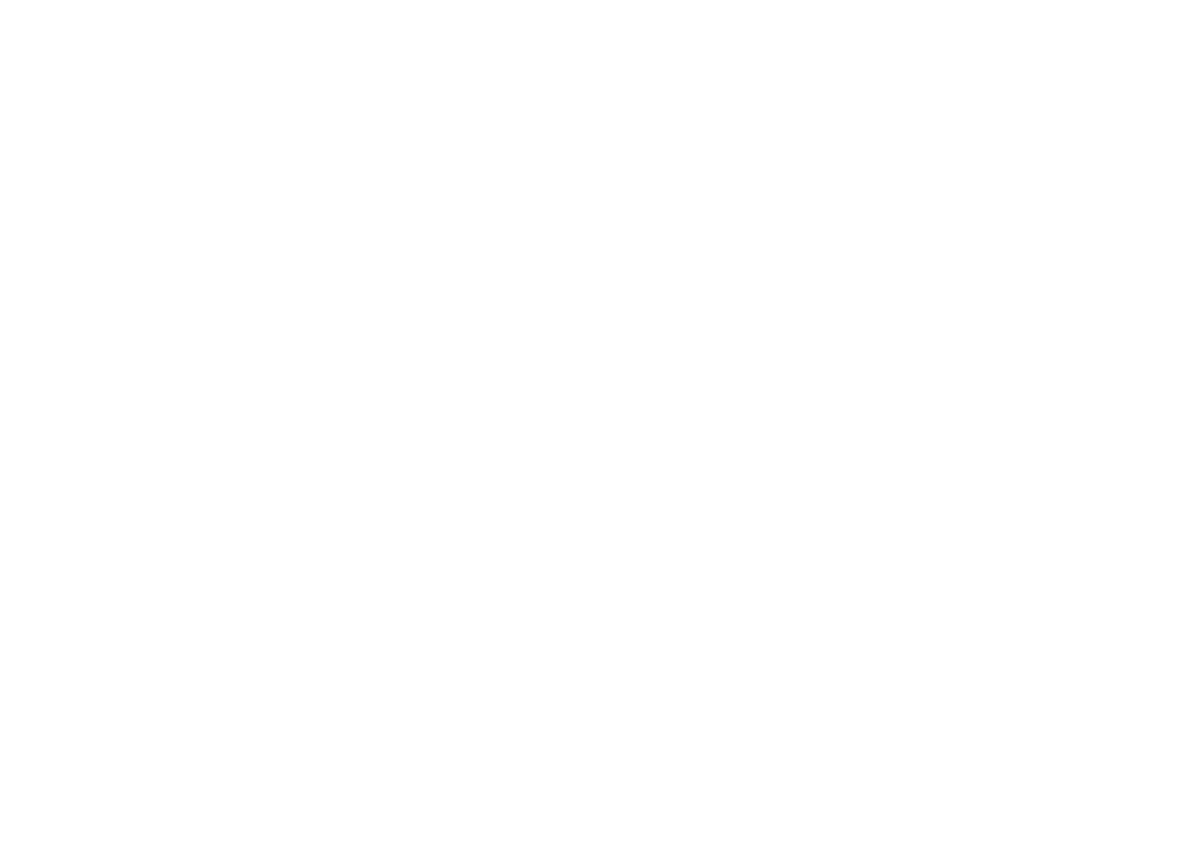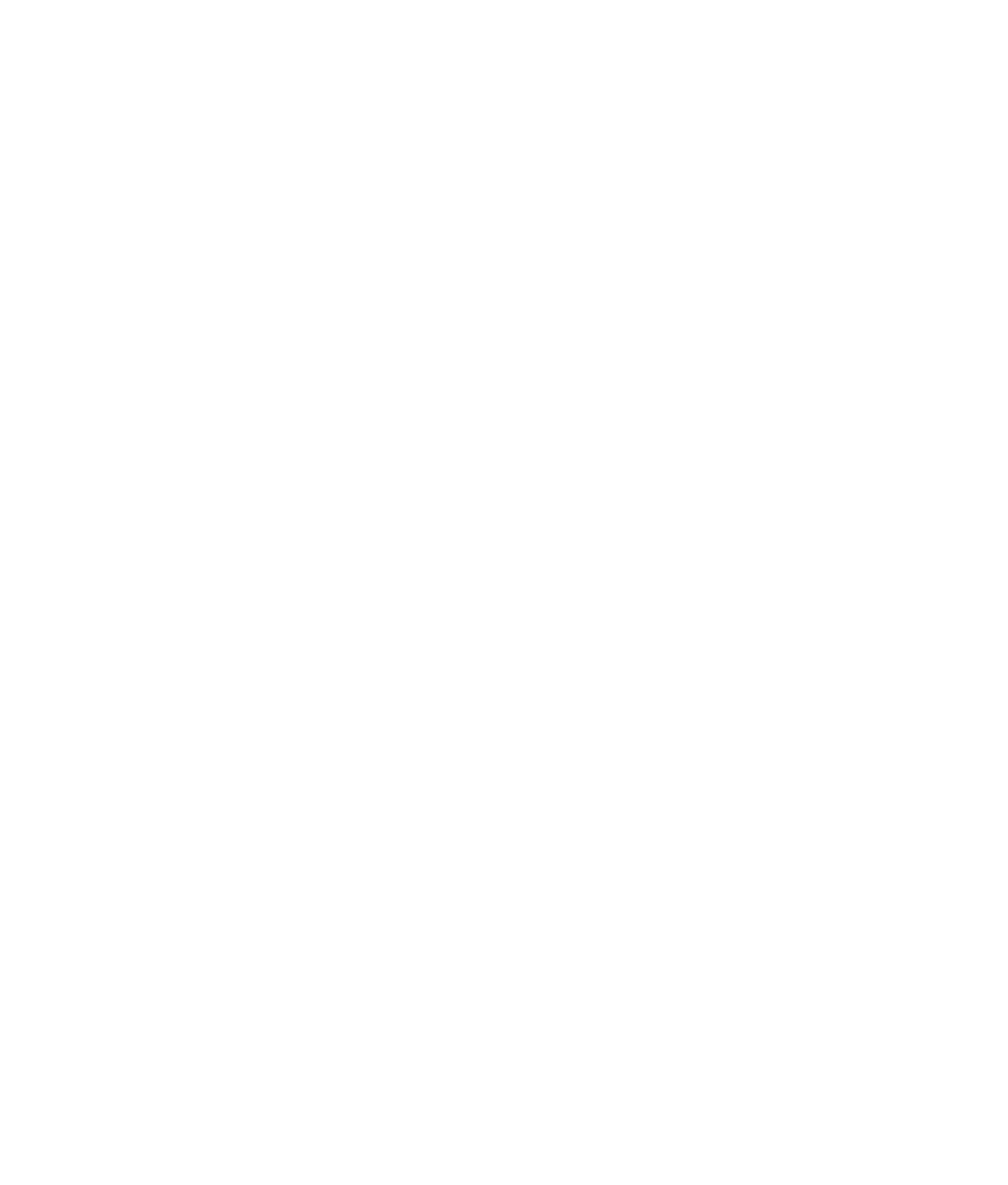#архитектура
Слияние архитектуры и видеоигр: пример Нидерландов
Пересказ-перевод статьи о том, как видеоигры повлияли на архитектуру и породили новую эстетику интерактивности и участия. На примере Нидерландов Мария Аранзасу Перес Индавереа исследует, как цифровые технологии и игровое мышление изменили архитектурное проектирование, превратив здания в медиа-среды.
Источник: María Aránzazu Pérez Indaverea, Convergence between Architecture and Videogames. The Case of The Netherlands. In: Navigating Cybercultures, ed. Nicholas Van Orden, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013, pp. 43–56.
Исследовательница Мария Аранзасу Перес Индавереа рассматривает, как видеоигры влияют на архитектурное мышление. На примере нидерландских бюро MVRDV, ONL и UN Studio она показывает, что архитектура начала перенимать у игр не только эстетику, но и принципы взаимодействия, иммерсии и программируемости. Архитектура становится медиа — динамической системой, где человек играет, взаимодействует и со-творит пространство.
Введение
Автор статьи, исследовательница Мария Аранзасу Перес Индавереа, отмечает, что за последние сорок лет видеоигры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Она определяет цифровые игры как «любые интерактивные игры, управляемые компьютерными системами», и подчёркивает, что граница между физическим и цифровым миром всё более размыта. Перес Индавереа использует образ «пористой мембраны» (по американскому исследователю Эдварду Кастронове), через которую физическая реальность и виртуальные пространства взаимно влияют друг на друга.
Количество игроков и время, которое они проводят в играх, постоянно растут. По наблюдению американской исследовательницы Джейн Макгонигал, видеоигры сегодня удовлетворяют подлинные человеческие потребности, с которыми реальный мир не всегда справляется. В некоторых странах именно игры стали главным культурным продуктом по объёму продаж, опередив кино и музыку. Автор делает вывод: если игры стали доминирующим культурным явлением, они неизбежно влияют на наше коллективное воображение и способы восприятия пространства.
Здесь Перес Индавереа отсылает к идеям ситуационистов — в частности, французского философа и художника Ги Дебора, который ещё в 1958 году писал, что игра должна «вторгнуться во всю жизнь». По мнению исследовательницы, эта установка нашла своё отражение в архитектурных утопиях второй половины XX века. Например, британский архитектор Седрик Прайс в проекте Fun Palace (1959) и Питер Кук из группы Archigram в Plug-In City (1964) уже рассматривали архитектуру как гибкую, технологически насыщенную среду для игры и эксперимента.
С тех пор технологии радикально развились, и архитекторы стали осмысленно работать с цифровыми инструментами. Если следовать логике канадского медиафилософа Маршалла Маклюэна, который утверждал, что каждое новое медиа формирует наш способ восприятия мира, то видеоигры, по мнению Перес Индавереа, изменили наше чувство времени и пространства.
Таким образом, цель статьи — проследить, как видеоигры и архитектура пересекаются и влияют друг на друга, и каким образом это проявилось в архитектурной практике конца XX – начала XXI века, особенно в Нидерландах — стране, где инновации, технологии и игривость давно стали частью архитектурного мышления.
Автор статьи, исследовательница Мария Аранзасу Перес Индавереа, отмечает, что за последние сорок лет видеоигры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Она определяет цифровые игры как «любые интерактивные игры, управляемые компьютерными системами», и подчёркивает, что граница между физическим и цифровым миром всё более размыта. Перес Индавереа использует образ «пористой мембраны» (по американскому исследователю Эдварду Кастронове), через которую физическая реальность и виртуальные пространства взаимно влияют друг на друга.
Количество игроков и время, которое они проводят в играх, постоянно растут. По наблюдению американской исследовательницы Джейн Макгонигал, видеоигры сегодня удовлетворяют подлинные человеческие потребности, с которыми реальный мир не всегда справляется. В некоторых странах именно игры стали главным культурным продуктом по объёму продаж, опередив кино и музыку. Автор делает вывод: если игры стали доминирующим культурным явлением, они неизбежно влияют на наше коллективное воображение и способы восприятия пространства.
Здесь Перес Индавереа отсылает к идеям ситуационистов — в частности, французского философа и художника Ги Дебора, который ещё в 1958 году писал, что игра должна «вторгнуться во всю жизнь». По мнению исследовательницы, эта установка нашла своё отражение в архитектурных утопиях второй половины XX века. Например, британский архитектор Седрик Прайс в проекте Fun Palace (1959) и Питер Кук из группы Archigram в Plug-In City (1964) уже рассматривали архитектуру как гибкую, технологически насыщенную среду для игры и эксперимента.
С тех пор технологии радикально развились, и архитекторы стали осмысленно работать с цифровыми инструментами. Если следовать логике канадского медиафилософа Маршалла Маклюэна, который утверждал, что каждое новое медиа формирует наш способ восприятия мира, то видеоигры, по мнению Перес Индавереа, изменили наше чувство времени и пространства.
Таким образом, цель статьи — проследить, как видеоигры и архитектура пересекаются и влияют друг на друга, и каким образом это проявилось в архитектурной практике конца XX – начала XXI века, особенно в Нидерландах — стране, где инновации, технологии и игривость давно стали частью архитектурного мышления.
Структура и методология исследования
Исследовательница описывает свою работу как качественное исследование (qualitative research), в котором она сочетает три подхода:
Период, на котором концентрируется Перес Индавереа, охватывает примерно пятнадцать лет — с 1995 по 2010 год. Хронология выбрана не случайно: началом она считает появление первых трёхмерных пространств в видеоиграх, начиная с Wolfenstein 3D (1992). Именно в середине 1990-х видеоигры окончательно освоили трёхмерность, а архитекторы — цифровое моделирование, что создало почву для взаимного влияния двух дисциплин.
Автор называет этот процесс эмбриональным, подчёркивая, что он развивается прежде всего в странах с высоким уровнем технологий и индустрии. В этом контексте Нидерланды кажутся идеальным примером: голландская архитектура традиционно открыта к экспериментам, объединяет инженерное мышление, медиа и поп-культуру.
Перес Индавереа сосредотачивается на поколении архитекторов, открывших свои бюро в 1990-е годы, и выделяет три главных объекта исследования — ONL (Кас Остерхаус), MVRDV (Винни Маас, Якоб ван Рейс, Натали де Врис) и UN Studio (Бен ван Беркел, Каролин Бос). Именно в их практике, по мнению исследовательницы, можно проследить наиболее чёткие параллели с игровым мышлением: от интерактивности и программируемых структур до иммерсивных пространств и геймифицированного взаимодействия с пользователем.
Методологически статья выстроена следующим образом:
Исследовательница описывает свою работу как качественное исследование (qualitative research), в котором она сочетает три подхода:
- библиографический анализ — изучение научных и теоретических источников;
- полуструктурированные интервью с архитекторами и экспертами;
- художественно-исторический анализ конкретных проектов.
Период, на котором концентрируется Перес Индавереа, охватывает примерно пятнадцать лет — с 1995 по 2010 год. Хронология выбрана не случайно: началом она считает появление первых трёхмерных пространств в видеоиграх, начиная с Wolfenstein 3D (1992). Именно в середине 1990-х видеоигры окончательно освоили трёхмерность, а архитекторы — цифровое моделирование, что создало почву для взаимного влияния двух дисциплин.
Автор называет этот процесс эмбриональным, подчёркивая, что он развивается прежде всего в странах с высоким уровнем технологий и индустрии. В этом контексте Нидерланды кажутся идеальным примером: голландская архитектура традиционно открыта к экспериментам, объединяет инженерное мышление, медиа и поп-культуру.
Перес Индавереа сосредотачивается на поколении архитекторов, открывших свои бюро в 1990-е годы, и выделяет три главных объекта исследования — ONL (Кас Остерхаус), MVRDV (Винни Маас, Якоб ван Рейс, Натали де Врис) и UN Studio (Бен ван Беркел, Каролин Бос). Именно в их практике, по мнению исследовательницы, можно проследить наиболее чёткие параллели с игровым мышлением: от интерактивности и программируемых структур до иммерсивных пространств и геймифицированного взаимодействия с пользователем.
Методологически статья выстроена следующим образом:
- анализируются пространственные особенности видеоигр и понятие «игрового пространства»;
- описывается культурный контекст Нидерландов, где формировались игровые подходы в архитектуре;
- подробно рассматриваются кейсы трёх бюро;
- формулируются выводы и перспективы дальнейших исследований.
Видеоигры и пространство: прозрачные города
Автор статьи отмечает, что одной из главных особенностей видеоигр является создание вымышленных миров, что отличает их от других видов игр. Эти миры — не просто декорации, а пространственные среды, в которых пользователь может действовать, исследовать, изменять окружение. Видеоигры, пишет Перес Индавереа, конструируют особое пространство, доступ к которому осуществляется через экран и технологические интерфейсы — мониторы, джойстики, контроллеры, VR-шлемы.
До появления трёхмерной графики разработчики игр пользовались приёмами других медиа — кино, живописи, архитектуры — чтобы создать иллюзию глубины. Но развитие компьютерных процессоров и памяти позволило добиться когерентного трёхмерного пространства, в котором игрок может свободно перемещаться. Главное новшество, по мнению исследовательницы, состоит не только в трёхмерности, но и в ощущении навигационной свободы — возможности действовать и выбирать маршрут в пределах игрового мира.
Игрок взаимодействует с пространством опосредованно, через аватара — фигуру, представляющую его в игре. Хотя физическое тело игрока остаётся вне мира игры, каждое движение контроллера немедленно отражается на экране, создавая иллюзию телесного присутствия. Эту связь между действием и откликом автор называет ключом к чувству иммерсии.
Со временем, подчёркивает Перес Индавереа, управление в играх стало интуитивнее, интерфейсы — проще, а ощущения — более телесными и сенсорными. Всё это служит одной цели: усилить погружение, то есть сделать так, чтобы игрок забыл о посредничестве технологий и переживал пространство игры как «реальное».
Далее исследовательница обращается к классическому понятию «магического круга» — термину, введённому нидерландским культурным историком Йоханом Хёйзингой в книге Homo Ludens (1938).
По Хёйзинге, игра существует внутри особого пространства, в котором действуют собственные правила и приостанавливаются законы обычной реальности. Перес Индавереа напоминает: внутри «магического круга» участие всегда добровольное, а его устойчивость поддерживается балансом между сложностью и доступностью — слишком лёгкая или слишком трудная игра разрушает вовлечённость.
Игровое пространство, таким образом, становится временной реальностью, где человек может испытывать эмоции, риск и творчество без угрозы. Американская исследовательница Джейн Макгонигал писала, что именно правила игры «высвобождают креативность и стратегическое мышление», превращая ограничение в стимул для воображения.
Далее Перес Индавереа использует теорию «прозрачности» из постмодернистской эстетики, ссылаясь на югославского философа Славоя Жижека. В контексте цифровых миров «прозрачность» означает забвение посредничества технологии: пользователь перестаёт осознавать, что его опыт смоделирован, и воспринимает цифровое пространство как физическое.
Если, пишет исследовательница, граница между виртуальным и реальным становится пористой, то обратное влияние также возможно: физическое пространство может перенять принципы игр и стать местом игрового взаимодействия. Такое пространство уходит от идеи оболочки и становится живой, медиированной средой, которая усиливает внимание, вовлечённость и совместное присутствие.
Именно это, по мнению Перес Индавереа, — важнейшая черта архитектуры нового типа: игровое, технологически опосредованное взаимодействие с пространством, где человек не просто присутствует, а становится соучастником его «игры».
Автор статьи отмечает, что одной из главных особенностей видеоигр является создание вымышленных миров, что отличает их от других видов игр. Эти миры — не просто декорации, а пространственные среды, в которых пользователь может действовать, исследовать, изменять окружение. Видеоигры, пишет Перес Индавереа, конструируют особое пространство, доступ к которому осуществляется через экран и технологические интерфейсы — мониторы, джойстики, контроллеры, VR-шлемы.
До появления трёхмерной графики разработчики игр пользовались приёмами других медиа — кино, живописи, архитектуры — чтобы создать иллюзию глубины. Но развитие компьютерных процессоров и памяти позволило добиться когерентного трёхмерного пространства, в котором игрок может свободно перемещаться. Главное новшество, по мнению исследовательницы, состоит не только в трёхмерности, но и в ощущении навигационной свободы — возможности действовать и выбирать маршрут в пределах игрового мира.
Игрок взаимодействует с пространством опосредованно, через аватара — фигуру, представляющую его в игре. Хотя физическое тело игрока остаётся вне мира игры, каждое движение контроллера немедленно отражается на экране, создавая иллюзию телесного присутствия. Эту связь между действием и откликом автор называет ключом к чувству иммерсии.
Со временем, подчёркивает Перес Индавереа, управление в играх стало интуитивнее, интерфейсы — проще, а ощущения — более телесными и сенсорными. Всё это служит одной цели: усилить погружение, то есть сделать так, чтобы игрок забыл о посредничестве технологий и переживал пространство игры как «реальное».
Далее исследовательница обращается к классическому понятию «магического круга» — термину, введённому нидерландским культурным историком Йоханом Хёйзингой в книге Homo Ludens (1938).
По Хёйзинге, игра существует внутри особого пространства, в котором действуют собственные правила и приостанавливаются законы обычной реальности. Перес Индавереа напоминает: внутри «магического круга» участие всегда добровольное, а его устойчивость поддерживается балансом между сложностью и доступностью — слишком лёгкая или слишком трудная игра разрушает вовлечённость.
Игровое пространство, таким образом, становится временной реальностью, где человек может испытывать эмоции, риск и творчество без угрозы. Американская исследовательница Джейн Макгонигал писала, что именно правила игры «высвобождают креативность и стратегическое мышление», превращая ограничение в стимул для воображения.
Далее Перес Индавереа использует теорию «прозрачности» из постмодернистской эстетики, ссылаясь на югославского философа Славоя Жижека. В контексте цифровых миров «прозрачность» означает забвение посредничества технологии: пользователь перестаёт осознавать, что его опыт смоделирован, и воспринимает цифровое пространство как физическое.
Если, пишет исследовательница, граница между виртуальным и реальным становится пористой, то обратное влияние также возможно: физическое пространство может перенять принципы игр и стать местом игрового взаимодействия. Такое пространство уходит от идеи оболочки и становится живой, медиированной средой, которая усиливает внимание, вовлечённость и совместное присутствие.
Именно это, по мнению Перес Индавереа, — важнейшая черта архитектуры нового типа: игровое, технологически опосредованное взаимодействие с пространством, где человек не просто присутствует, а становится соучастником его «игры».
Игривость и архитектура в Нидерландах: исследуемые примеры
Мария Аранзасу Перес Индавереа начинает этот раздел с напоминания о том, что игра и архитектура в Нидерландах тесно переплетены исторически. После Второй мировой войны Амстердам стал первым городом, где был разработан целостный план сети детских площадок. Эти площадки формировали «полицентрическую сеть» в промежуточных, «междугородских» пространствах, и создавались по инициативе местных сообществ. Они становились не просто зонами отдыха, а участками коллективного участия, своеобразными лабораториями будущего урбанизма.
Эта идея — города как пространства игры и со-творчества — глубоко повлияла на голландское градостроительное мышление.
Мария Аранзасу Перес Индавереа начинает этот раздел с напоминания о том, что игра и архитектура в Нидерландах тесно переплетены исторически. После Второй мировой войны Амстердам стал первым городом, где был разработан целостный план сети детских площадок. Эти площадки формировали «полицентрическую сеть» в промежуточных, «междугородских» пространствах, и создавались по инициативе местных сообществ. Они становились не просто зонами отдыха, а участками коллективного участия, своеобразными лабораториями будущего урбанизма.
Эта идея — города как пространства игры и со-творчества — глубоко повлияла на голландское градостроительное мышление.
От ситуационистов к «играющему человеку»
Автор отмечает, что в 1959 году группа ситуационистов, возглавляемая французским теоретиком и художником Ги Дебором, была приглашена спроектировать выставку в амстердамском музее Стеделейк. Их план включал лабиринт, символизирующий свободное, дезориентирующее и творческое исследование пространства — своего рода физическую игру.
Автор отмечает, что в 1959 году группа ситуационистов, возглавляемая французским теоретиком и художником Ги Дебором, была приглашена спроектировать выставку в амстердамском музее Стеделейк. Их план включал лабиринт, символизирующий свободное, дезориентирующее и творческое исследование пространства — своего рода физическую игру.
Параллельно с ними художник и архитектор Констант Ньювенхейс работал над своим утопическим проектом New Babylon — видением нового города для homo ludens, «играющего человека» (понятие, введённое нидерландским культурным историком Йоханом Хёйзингой). В этом воображаемом мире технологии должны были освободить людей от труда, чтобы они могли всецело посвятить себя игре, эксперименту и творчеству. Для Константа пространство само становилось игрушкой, открытым и подвижным.
Эти три примера — детские площадки Амстердама, выставка ситуационистов и New Babylon — Перес Индавереа рассматривает как архетипы нидерландской игривости в архитектуре. Они демонстрируют особое отношение к городу как к пространству участия и к архитектуре — как к форме игры и со-творчества.
Эти три примера — детские площадки Амстердама, выставка ситуационистов и New Babylon — Перес Индавереа рассматривает как архетипы нидерландской игривости в архитектуре. Они демонстрируют особое отношение к городу как к пространству участия и к архитектуре — как к форме игры и со-творчества.
Голландская архитектура и цифровая эпоха
Далее автор переносится во вторую половину XX века. К концу 1980-х годов компьютеры начинают входить в повседневную практику архитекторов. Видеоигры, к этому моменту уже завоевавшие домашний рынок, становятся культурным ориентиром.
Примерно в то же время в архитектурных школах — в частности, в Технологическом университете Делфта (TU Delft) — в учебные программы вводятся курсы по компьютерному моделированию и программированию. Это, по мнению исследовательницы, совпало с формированием нового поколения архитекторов, которые стали мыслить цифровыми категориями и осваивать язык визуальных симуляций.
Далее автор переносится во вторую половину XX века. К концу 1980-х годов компьютеры начинают входить в повседневную практику архитекторов. Видеоигры, к этому моменту уже завоевавшие домашний рынок, становятся культурным ориентиром.
Примерно в то же время в архитектурных школах — в частности, в Технологическом университете Делфта (TU Delft) — в учебные программы вводятся курсы по компьютерному моделированию и программированию. Это, по мнению исследовательницы, совпало с формированием нового поколения архитекторов, которые стали мыслить цифровыми категориями и осваивать язык визуальных симуляций.
Три подхода к связи архитектуры и видеоигр
Перес Индавереа выделяет три направления, в которых проявляется влияние видеоигр на архитектуру.
Эти подходы она применяет к анализу трёх ведущих голландских бюро — ONL (Кас Остерхаус), MVRDV (Винни Маас, Якоб ван Рейс и Натали де Врис) и UN Studio (Бен ван Беркел и Каролин Бос).
1. Теоретический уровень
Перес Индавереа пишет, что связь архитектуры и видеоигр проявляется на двух теоретических уровнях:
(а) концептуальном, где архитекторы используют игровые идеи как основу для мышления о пространстве;
(б) инструментальном, где видеоигры становятся инструментом проектирования и визуализации.
1.1. Концептуальный аспект
На концептуальном уровне архитекторы обращаются к ключевым понятиям, определяющим опыт видеоигр:
Исследовательница подробно рассматривает здесь деятельность Каса Остерхауса (Kas Oosterhuis), выпускника TU Delft и Architectural Association (Лондон). В конце 1980-х он вместе с художницей Илоной Ленард (Ilona Lénárd) основал бюро ONL (Oosterhuis_Lenárd).
Их главная идея — слияние искусства, архитектуры и технологий. Остерхаус утверждает, что архитектура должна быть «перепрограммирована» через взаимодействие с цифровыми системами. Он говорит о необходимости «тихой революции», которая переопределяет само понятие здания.
Архитектура, по его мнению, должна рассматриваться как медиум, а не как статичный объект. Он пишет, что человек — «idiot savant» в отношениях с компьютерами: интуитивный, но не до конца осознающий потенциал взаимодействия с ними. Поэтому архитектура будущего должна буквально сливаться с технологией, а не просто использовать её как инструмент.
Остерхаус вводит понятие «swarm architecture» — архитектуры роя. В такой системе каждый элемент здания становится активным, подключённым к общей сети и взаимодействует с другими элементами и пользователями в реальном времени. Эта идея вдохновлена биологическими и цифровыми моделями коллективного поведения. Она означает, что здание не имеет фиксированной формы, а находится в постоянном процессе самоорганизации и обмена данными.
Поток информации позволяет отказаться от традиционной «платоновской геометрии» (термин Остерхауса), заменив её параметрическими системами. Так возникает «e-motive architecture» — эмоциональная архитектура, способная адаптироваться, реагировать на пользователей и стимулировать их к действию и исследованию пространства.
Архитекторы, считает Остерхаус, должны принимать демократическое участие в проектном процессе, работая вместе с инженерами, программистами и пользователями, и при этом «применять принципы теории игр» — как модель взаимодействия множества субъектов с разными стратегиями.
Перес Индавереа выделяет три направления, в которых проявляется влияние видеоигр на архитектуру.
Эти подходы она применяет к анализу трёх ведущих голландских бюро — ONL (Кас Остерхаус), MVRDV (Винни Маас, Якоб ван Рейс и Натали де Врис) и UN Studio (Бен ван Беркел и Каролин Бос).
1. Теоретический уровень
Перес Индавереа пишет, что связь архитектуры и видеоигр проявляется на двух теоретических уровнях:
(а) концептуальном, где архитекторы используют игровые идеи как основу для мышления о пространстве;
(б) инструментальном, где видеоигры становятся инструментом проектирования и визуализации.
1.1. Концептуальный аспект
На концептуальном уровне архитекторы обращаются к ключевым понятиям, определяющим опыт видеоигр:
- интерактивность с технологическими устройствами в реальном времени;
- коммуникация между человеком и машиной;
- новые формы архитектурного опыта;
- иммерсия и сенсорное участие.
Исследовательница подробно рассматривает здесь деятельность Каса Остерхауса (Kas Oosterhuis), выпускника TU Delft и Architectural Association (Лондон). В конце 1980-х он вместе с художницей Илоной Ленард (Ilona Lénárd) основал бюро ONL (Oosterhuis_Lenárd).
Их главная идея — слияние искусства, архитектуры и технологий. Остерхаус утверждает, что архитектура должна быть «перепрограммирована» через взаимодействие с цифровыми системами. Он говорит о необходимости «тихой революции», которая переопределяет само понятие здания.
Архитектура, по его мнению, должна рассматриваться как медиум, а не как статичный объект. Он пишет, что человек — «idiot savant» в отношениях с компьютерами: интуитивный, но не до конца осознающий потенциал взаимодействия с ними. Поэтому архитектура будущего должна буквально сливаться с технологией, а не просто использовать её как инструмент.
Остерхаус вводит понятие «swarm architecture» — архитектуры роя. В такой системе каждый элемент здания становится активным, подключённым к общей сети и взаимодействует с другими элементами и пользователями в реальном времени. Эта идея вдохновлена биологическими и цифровыми моделями коллективного поведения. Она означает, что здание не имеет фиксированной формы, а находится в постоянном процессе самоорганизации и обмена данными.
Поток информации позволяет отказаться от традиционной «платоновской геометрии» (термин Остерхауса), заменив её параметрическими системами. Так возникает «e-motive architecture» — эмоциональная архитектура, способная адаптироваться, реагировать на пользователей и стимулировать их к действию и исследованию пространства.
Архитекторы, считает Остерхаус, должны принимать демократическое участие в проектном процессе, работая вместе с инженерами, программистами и пользователями, и при этом «применять принципы теории игр» — как модель взаимодействия множества субъектов с разными стратегиями.
1.2. Инструментальный аспект
Второй уровень — использование видеоигр как инструмента проектирования. Перес Индавереа подчёркивает, что этот шаг был особенно важен для архитекторов, которые считали, что игровая среда — лучший способ визуализировать свои исследования.
С начала 2000-х годов Кас Остерхаус преподавал в TU Delft, где создал центр Hyperbody и одноимённую исследовательскую группу. Эта лаборатория, по словам исследовательницы, была одной из первых, кто стал использовать игровые движки и 3D-интерфейсы (например, Nemo и Virtools) в архитектуре.
ONL и Hyperbody разрабатывали проекты в жанре «serious games» — игр, созданных для обучения, моделирования и совместного проектирования. Перес Индавереа приводит два ключевых примера:
Эти проекты демонстрируют, что видеоигровые движки способны стать самостоятельной средой архитектурного мышления, в которой визуализация превращается в пространство эксперимента.
Остерхаус интересовался потенциалом игровых технологий в создании «живых миров», но одновременно выражал недовольство тем, как видеоигры обычно изображают город. Он считал, что большинство из них транслирует ограниченное, механистическое видение урбанизма, и потому архитекторы должны предлагать новые, более открытые сценарии взаимодействия.
2. Концептуальные применения в архитектурных проектах
Перес Индавереа пишет, что второй тип связи между архитектурой и видеоиграми — это прямое применение игровых концепций в архитектурных проектах. Здесь речь идёт не о метафорах и не о вдохновении, а о новой типологии пространства, которая формируется под влиянием цифровых технологий и принципов взаимодействия, характерных для игр.
Эти проекты демонстрируют сближение физического и цифрового. Автор подчёркивает, что архитекторы стараются избегать простого наложения технологии на традиционную форму («протезного эффекта») и стремятся к органическому слиянию — когда вычислительные и интерактивные процессы становятся частью самой архитектуры.
Такая практика, по словам Перес Индавереа, ведёт к росту междисциплинарных команд: инженеры, программисты, художники и архитекторы работают совместно с самого начала проекта. Это отражает идею кооперативного моделирования, характерную для проектных симуляторов и для многопользовательских игр.
Второй уровень — использование видеоигр как инструмента проектирования. Перес Индавереа подчёркивает, что этот шаг был особенно важен для архитекторов, которые считали, что игровая среда — лучший способ визуализировать свои исследования.
С начала 2000-х годов Кас Остерхаус преподавал в TU Delft, где создал центр Hyperbody и одноимённую исследовательскую группу. Эта лаборатория, по словам исследовательницы, была одной из первых, кто стал использовать игровые движки и 3D-интерфейсы (например, Nemo и Virtools) в архитектуре.
ONL и Hyperbody разрабатывали проекты в жанре «serious games» — игр, созданных для обучения, моделирования и совместного проектирования. Перес Индавереа приводит два ключевых примера:
- ProtoCITY 2005++ (2005) — арт-инсталляция, основанная на принципах игровой симуляции, в которой пользователи могли в реальном времени участвовать в формировании городской среды, взаимодействуя с цифровыми элементами.
- ProtoPLAN Design Tool (2006) — многопользовательский инструмент для коллективного планирования, созданный для проектирования и обсуждения урбанистических сценариев.
Эти проекты демонстрируют, что видеоигровые движки способны стать самостоятельной средой архитектурного мышления, в которой визуализация превращается в пространство эксперимента.
Остерхаус интересовался потенциалом игровых технологий в создании «живых миров», но одновременно выражал недовольство тем, как видеоигры обычно изображают город. Он считал, что большинство из них транслирует ограниченное, механистическое видение урбанизма, и потому архитекторы должны предлагать новые, более открытые сценарии взаимодействия.
2. Концептуальные применения в архитектурных проектах
Перес Индавереа пишет, что второй тип связи между архитектурой и видеоиграми — это прямое применение игровых концепций в архитектурных проектах. Здесь речь идёт не о метафорах и не о вдохновении, а о новой типологии пространства, которая формируется под влиянием цифровых технологий и принципов взаимодействия, характерных для игр.
Эти проекты демонстрируют сближение физического и цифрового. Автор подчёркивает, что архитекторы стараются избегать простого наложения технологии на традиционную форму («протезного эффекта») и стремятся к органическому слиянию — когда вычислительные и интерактивные процессы становятся частью самой архитектуры.
Такая практика, по словам Перес Индавереа, ведёт к росту междисциплинарных команд: инженеры, программисты, художники и архитекторы работают совместно с самого начала проекта. Это отражает идею кооперативного моделирования, характерную для проектных симуляторов и для многопользовательских игр.
ONL и Hyperbody: архитектура как интерфейс
Многие экспериментальные проекты бюро ONL (Oosterhuis_Lenárd) и исследовательской лаборатории Hyperbody (TU Delft) так и не были построены, однако, они стали важными этапами в формировании новой цифровой эстетики. Одним из немногих реализованных примеров Перес Индавереа называет Web of North Holland (2002), созданный для мировой выставки Floriade.
Этот проект представляет собой «скульптурное здание», которое демонстрирует принципы параметрического моделирования и единства структуры и оболочки. Позднее оно было переоборудовано в iWeb, где разместилась лаборатория ProtoSpace 2.0 Hyperbody. Исследовательница называет это пространство «augmented design studio» — «дополненной проектной студией», где можно было проводить коллаборативную работу в реальном времени.
Интерьер павильона был оснащён множеством интерактивных элементов:
Все эти компоненты позволяли пользователям и исследователям взаимодействовать с пространством как с живой системой.
В том же году ONL предложили проект Digital Pavilion for Seoul (2006), который Перес Индавереа описывает как «сложную адаптивную роботизированную систему из взаимодействующих установок».
Павильон был задуман как пространство, где посетители могли перемещаться внутри динамически изменяющейся среды, в которой сенсорные технологии обеспечивали реагирование архитектуры на человеческое присутствие.
Это проект, в котором физическая структура, данные и пользовательское поведение образуют единую среду — архитектуру, действующую по законам игрового движка.
Многие экспериментальные проекты бюро ONL (Oosterhuis_Lenárd) и исследовательской лаборатории Hyperbody (TU Delft) так и не были построены, однако, они стали важными этапами в формировании новой цифровой эстетики. Одним из немногих реализованных примеров Перес Индавереа называет Web of North Holland (2002), созданный для мировой выставки Floriade.
Этот проект представляет собой «скульптурное здание», которое демонстрирует принципы параметрического моделирования и единства структуры и оболочки. Позднее оно было переоборудовано в iWeb, где разместилась лаборатория ProtoSpace 2.0 Hyperbody. Исследовательница называет это пространство «augmented design studio» — «дополненной проектной студией», где можно было проводить коллаборативную работу в реальном времени.
Интерьер павильона был оснащён множеством интерактивных элементов:
- датчиками движения и давления,
- системами проекций,
- распознаванием речи,
- цифровыми панелями обратной связи.
Все эти компоненты позволяли пользователям и исследователям взаимодействовать с пространством как с живой системой.
В том же году ONL предложили проект Digital Pavilion for Seoul (2006), который Перес Индавереа описывает как «сложную адаптивную роботизированную систему из взаимодействующих установок».
Павильон был задуман как пространство, где посетители могли перемещаться внутри динамически изменяющейся среды, в которой сенсорные технологии обеспечивали реагирование архитектуры на человеческое присутствие.
Это проект, в котором физическая структура, данные и пользовательское поведение образуют единую среду — архитектуру, действующую по законам игрового движка.
UN Studio: динамика восприятия и пространственная интерактивность
Следующим примером Перес Индавереа рассматривает работы бюро UN Studio, основанного архитектором Беном ван Беркелом (Ben van Berkel) и искусствоведкой Каролин Бос (Caroline Bos). Автор подчёркивает, что двойная природа их образования — архитектурного и гуманитарного — определила методологию бюро, где теория и практика развиваются параллельно.
UN Studio интересует вопрос: как силы, влияющие на архитектуру (время, движение, информация), могут быть переведены в форму. Для этого бюро начинает использовать диаграммы, которые Перес Индавереа называет «многомерными графиками» — они визуализируют связи между данными и архитектурной структурой.
Ещё в 1990 году UN Studio начали применять CAD-программы (компьютерное проектирование), которые позволяли немедленно видеть результат любых изменений параметров. Этот подход стал предтечей параметрического и интерактивного проектирования. Информация, вводимая в систему, сразу же преобразовывала форму здания — архитектура становилась процессом, а не результатом.
Перес Индавереа пишет, что UN Studio «создают структуры без геометрии» — то есть формы, которые не подчиняются заранее заданной композиции, а рождаются из потоков данных и движений.
Следующим примером Перес Индавереа рассматривает работы бюро UN Studio, основанного архитектором Беном ван Беркелом (Ben van Berkel) и искусствоведкой Каролин Бос (Caroline Bos). Автор подчёркивает, что двойная природа их образования — архитектурного и гуманитарного — определила методологию бюро, где теория и практика развиваются параллельно.
UN Studio интересует вопрос: как силы, влияющие на архитектуру (время, движение, информация), могут быть переведены в форму. Для этого бюро начинает использовать диаграммы, которые Перес Индавереа называет «многомерными графиками» — они визуализируют связи между данными и архитектурной структурой.
Ещё в 1990 году UN Studio начали применять CAD-программы (компьютерное проектирование), которые позволяли немедленно видеть результат любых изменений параметров. Этот подход стал предтечей параметрического и интерактивного проектирования. Информация, вводимая в систему, сразу же преобразовывала форму здания — архитектура становилась процессом, а не результатом.
Перес Индавереа пишет, что UN Studio «создают структуры без геометрии» — то есть формы, которые не подчиняются заранее заданной композиции, а рождаются из потоков данных и движений.
Инсталляции как архитектурные эксперименты
В своих экспериментах бюро UN Studio напрямую обращалось к философии игры. Перес Индавереа приводит два примера временных проектов:
The Changing Room (2008) — временная павильонная инсталляция, представлявшая собой белую изогнутую структуру.
Burnham Pavilion (2009), созданный для Чикаго в честь столетия «Плана Бернема».
Эти проекты, пишет Перес Индавереа, демонстрируют, как архитектура может использовать игровые принципы для создания новых эмоциональных состояний и сенсорного опыта.
В своих экспериментах бюро UN Studio напрямую обращалось к философии игры. Перес Индавереа приводит два примера временных проектов:
The Changing Room (2008) — временная павильонная инсталляция, представлявшая собой белую изогнутую структуру.
- Внутренние поверхности использовались для проекций и игр со светом, которые изменяли восприятие пространства.
- Таким образом, посетитель оказывался участником, а не наблюдателем — пространство реагировало на него.
Burnham Pavilion (2009), созданный для Чикаго в честь столетия «Плана Бернема».
- Если в The Changing Room видеопроекции были заранее запрограммированы, то здесь архитекторы впервые реализовали полноценную систему интерактивности: встроенные сенсоры фиксировали движение посетителей, а освещение и цветовые паттерны реагировали на их присутствие в реальном времени.
- Аппаратное и программное обеспечение, встроенное в структуру павильона, превращало архитектуру в «игру света и движения», где граница между наблюдением и действием стиралась.
Эти проекты, пишет Перес Индавереа, демонстрируют, как архитектура может использовать игровые принципы для создания новых эмоциональных состояний и сенсорного опыта.
MVRDV: игры данных и эволюция города
Третьим примером Перес Индавереа анализирует работу бюро MVRDV — коллектива, основанного в 1993 году архитекторами Винни Маасом (Winy Maas), Якобом ван Рейсом (Jacob van Rijs) и Натали де Врис (Nathalie de Vries). Все трое учились в TU Delft, а Винни Маас также проходил стажировку в Architectural Association (AA), где познакомился с авангардными цифровыми практиками.
Бюро с самого начала сосредоточилось на новых процессах проектирования и городского анализа. Их интересовал вопрос, как можно использовать большие массивы данных (data-driven design) для управления урбанистическим развитием.
В своих теоретических работах MVRDV формулируют понятие «datatown» — города, описанного исключительно через данные.
Для анализа и визуализации информации они начали разрабатывать собственное программное обеспечение и анимации, чтобы оптимизировать процесс проектирования и сделать его наглядным. Этот подход привёл к созданию игровых инструментов для моделирования города.
Третьим примером Перес Индавереа анализирует работу бюро MVRDV — коллектива, основанного в 1993 году архитекторами Винни Маасом (Winy Maas), Якобом ван Рейсом (Jacob van Rijs) и Натали де Врис (Nathalie de Vries). Все трое учились в TU Delft, а Винни Маас также проходил стажировку в Architectural Association (AA), где познакомился с авангардными цифровыми практиками.
Бюро с самого начала сосредоточилось на новых процессах проектирования и городского анализа. Их интересовал вопрос, как можно использовать большие массивы данных (data-driven design) для управления урбанистическим развитием.
В своих теоретических работах MVRDV формулируют понятие «datatown» — города, описанного исключительно через данные.
Для анализа и визуализации информации они начали разрабатывать собственное программное обеспечение и анимации, чтобы оптимизировать процесс проектирования и сделать его наглядным. Этот подход привёл к созданию игровых инструментов для моделирования города.
Spacefighter: The Evolutionary City (2007)
Главным примером такого инструмента стала разработанная ими игра/симуляция Spacefighter: The Evolutionary City, созданная совместно с Delft School of Design, Berlage Institute, MIT и студией cThrough. Игра предназначалась для моделирования сложных временных и конкурентных процессов в городской среде.
В книге, сопровождающей проект, Винни Маас описывает Spacefighter как «игру для эволюционного города», цель которой — демократизировать процесс урбанистического планирования. Пользователи могли участвовать в развитии города, вносить свои решения и наблюдать за их последствиями в динамике.
По мнению Мааса, видеоигры — это успешное медиа, построенное на интеллектуальной модели эволюции и адаптации, и именно эти принципы могут быть применены к архитектуре. Он утверждает, что автоматизация и программируемость — это естественное будущее проектирования, и Spacefighter был первой попыткой использовать игровую механику как инструмент анализа.
Перес Индавереа заключает, что этот пример показывает, как видеоигры становятся лабораторией для архитектуры, где можно экспериментировать с городом как с системой, не рискуя в физическом мире.
Главным примером такого инструмента стала разработанная ими игра/симуляция Spacefighter: The Evolutionary City, созданная совместно с Delft School of Design, Berlage Institute, MIT и студией cThrough. Игра предназначалась для моделирования сложных временных и конкурентных процессов в городской среде.
В книге, сопровождающей проект, Винни Маас описывает Spacefighter как «игру для эволюционного города», цель которой — демократизировать процесс урбанистического планирования. Пользователи могли участвовать в развитии города, вносить свои решения и наблюдать за их последствиями в динамике.
По мнению Мааса, видеоигры — это успешное медиа, построенное на интеллектуальной модели эволюции и адаптации, и именно эти принципы могут быть применены к архитектуре. Он утверждает, что автоматизация и программируемость — это естественное будущее проектирования, и Spacefighter был первой попыткой использовать игровую механику как инструмент анализа.
Перес Индавереа заключает, что этот пример показывает, как видеоигры становятся лабораторией для архитектуры, где можно экспериментировать с городом как с системой, не рискуя в физическом мире.
Результаты и выводы
В финальной части статьи Мария Аранзасу Перес Индавереа подводит итоги анализа трёх нидерландских архитектурных бюро — ONL, MVRDV и UN Studio. По её мнению, эти практики демонстрируют общее стремление к созданию нового типа архитектуры, соответствующей логике цифровой эпохи — гибкой, интерактивной, сетевой и эмоционально вовлекающей.
Исследовательница отмечает, что такие архитекторы продолжают линию авангардных проектов XX века, в которых технологии рассматривались как инструмент освобождения и демократизации архитектуры. Однако в отличие от утопий 1960-х годов, современные практики действуют в реальном контексте «экономики впечатлений», где пользовательский опыт становится товаром, а архитектура — медиальным интерфейсом.
Архитектура как игра и как медиа
Все рассмотренные бюро, по наблюдению Перес Индавереа, размышляют о том, как пересобрать архитектуру через призму игры.
В их подходах прослеживаются ключевые черты, свойственные видеоиграм:
Эти качества формируют новый язык архитектуры, в котором здания становятся медиа — интеллектуальными средами, способными передавать информацию и взаимодействовать с людьми. Автор использует выражение Каса Остерхауса о «тихой революции», чтобы подчеркнуть, что речь идёт не о внешних эффектах, а о смене парадигмы: архитектура перестаёт быть немой и начинает «говорить».
Новые материалы и нематериальные формы
Перес Индавереа подчёркивает, что применение цифрового софта и игровых технологий в проектировании означает не только формальную инновацию, но и переосмысление самого понятия материала.
Сегодня в архитектуре появляется всё больше «нематериальных» элементов — света, данных, звука, движений. Свет становится своеобразной «второй кожей» здания, которая может менять облик, функцию и даже коммуницировать с окружающей средой.
Так, в проектах ONL и UN Studio архитектура обретает свойства, характерные для виртуальных миров — она реагирует, мигает, дышит, создавая «сенсорный спектакль» для горожан. Эти проекты, пишет исследовательница, стремятся вызвать эмоциональный отклик и вовлечённость, превратив здание в своего рода игровое событие в городском пространстве.
Локальное и глобальное
Хотя большинство реализованных проектов были временными инсталляциями, связанными с выставками или фестивалями, автор называет их «глокальными» (от global + local).
Каждый из них был создан для конкретного места, но при этом обращался к универсальным темам цифровой эпохи — интерактивности, подключённости и коллективного опыта. Индивидуальное взаимодействие с пространством становилось частью общего, сетевого переживания.
По мнению Перес Индавереа, именно в этом проявляется новый тип архитектуры — архитектуры участия, в которой пользователь уже не наблюдатель, а игрок.
Противоречия и риски
Автор признаёт, что эта новая «игровая» архитектура вызывает и критику. Австралийский теоретик медиа Скотт МакКуайр предупреждает о риске тотального контроля и гиперкоммодификации, когда интерактивные технологии превращаются в инструмент наблюдения и манипуляции.
Французский историк архитектуры Антуан Пикон указывает на опасность формализма: в погоне за эффектами архитектура может потерять смысл и стать просто технологическим шоу.
Тем не менее, исследовательница считает, что эти риски неизбежны на ранних стадиях эволюции новой формы.
Перспективы
Перес Индавереа делает вывод, что игровая парадигма уже начала менять архитектуру, но процесс только начинается.
Она предполагает, что следующие поколения архитекторов, выросшие на видеоиграх и цифровых платформах, будут формировать интерактивные, адаптивные и демократичные пространства, где жизнь и игра, участие и творчество соединяются.
В будущих исследованиях она планирует подробнее рассмотреть роль TU Delft и Architectural Association (AA) как центров, где зародилось это направление, а также проследить, как молодые бюро осмысляют идеи «игрового проектирования» в архитектуре.
Итог
В заключении Перес Индавереа подчёркивает, что архитектура, подобно видеоигре, становится процессом, который формируется во времени и в действии. Архитектор перестаёт быть автором-создателем, а становится куратором взаимодействий, задающим правила, но оставляющим пространство для свободы и случайности — как гейм-дизайнер, создающий мир, в котором игрок сам выбирает путь.
В финальной части статьи Мария Аранзасу Перес Индавереа подводит итоги анализа трёх нидерландских архитектурных бюро — ONL, MVRDV и UN Studio. По её мнению, эти практики демонстрируют общее стремление к созданию нового типа архитектуры, соответствующей логике цифровой эпохи — гибкой, интерактивной, сетевой и эмоционально вовлекающей.
Исследовательница отмечает, что такие архитекторы продолжают линию авангардных проектов XX века, в которых технологии рассматривались как инструмент освобождения и демократизации архитектуры. Однако в отличие от утопий 1960-х годов, современные практики действуют в реальном контексте «экономики впечатлений», где пользовательский опыт становится товаром, а архитектура — медиальным интерфейсом.
Архитектура как игра и как медиа
Все рассмотренные бюро, по наблюдению Перес Индавереа, размышляют о том, как пересобрать архитектуру через призму игры.
В их подходах прослеживаются ключевые черты, свойственные видеоиграм:
- Интерактивность — пространство реагирует на действия человека;
- Иммерсивность — архитектура создаёт эмоциональное погружение;
- Изменяемость — здания могут адаптироваться и «перепрограммироваться»;
- Сетевая логика — проектирование превращается в коллективный процесс.
Эти качества формируют новый язык архитектуры, в котором здания становятся медиа — интеллектуальными средами, способными передавать информацию и взаимодействовать с людьми. Автор использует выражение Каса Остерхауса о «тихой революции», чтобы подчеркнуть, что речь идёт не о внешних эффектах, а о смене парадигмы: архитектура перестаёт быть немой и начинает «говорить».
Новые материалы и нематериальные формы
Перес Индавереа подчёркивает, что применение цифрового софта и игровых технологий в проектировании означает не только формальную инновацию, но и переосмысление самого понятия материала.
Сегодня в архитектуре появляется всё больше «нематериальных» элементов — света, данных, звука, движений. Свет становится своеобразной «второй кожей» здания, которая может менять облик, функцию и даже коммуницировать с окружающей средой.
Так, в проектах ONL и UN Studio архитектура обретает свойства, характерные для виртуальных миров — она реагирует, мигает, дышит, создавая «сенсорный спектакль» для горожан. Эти проекты, пишет исследовательница, стремятся вызвать эмоциональный отклик и вовлечённость, превратив здание в своего рода игровое событие в городском пространстве.
Локальное и глобальное
Хотя большинство реализованных проектов были временными инсталляциями, связанными с выставками или фестивалями, автор называет их «глокальными» (от global + local).
Каждый из них был создан для конкретного места, но при этом обращался к универсальным темам цифровой эпохи — интерактивности, подключённости и коллективного опыта. Индивидуальное взаимодействие с пространством становилось частью общего, сетевого переживания.
По мнению Перес Индавереа, именно в этом проявляется новый тип архитектуры — архитектуры участия, в которой пользователь уже не наблюдатель, а игрок.
Противоречия и риски
Автор признаёт, что эта новая «игровая» архитектура вызывает и критику. Австралийский теоретик медиа Скотт МакКуайр предупреждает о риске тотального контроля и гиперкоммодификации, когда интерактивные технологии превращаются в инструмент наблюдения и манипуляции.
Французский историк архитектуры Антуан Пикон указывает на опасность формализма: в погоне за эффектами архитектура может потерять смысл и стать просто технологическим шоу.
Тем не менее, исследовательница считает, что эти риски неизбежны на ранних стадиях эволюции новой формы.
Перспективы
Перес Индавереа делает вывод, что игровая парадигма уже начала менять архитектуру, но процесс только начинается.
Она предполагает, что следующие поколения архитекторов, выросшие на видеоиграх и цифровых платформах, будут формировать интерактивные, адаптивные и демократичные пространства, где жизнь и игра, участие и творчество соединяются.
В будущих исследованиях она планирует подробнее рассмотреть роль TU Delft и Architectural Association (AA) как центров, где зародилось это направление, а также проследить, как молодые бюро осмысляют идеи «игрового проектирования» в архитектуре.
Итог
В заключении Перес Индавереа подчёркивает, что архитектура, подобно видеоигре, становится процессом, который формируется во времени и в действии. Архитектор перестаёт быть автором-создателем, а становится куратором взаимодействий, задающим правила, но оставляющим пространство для свободы и случайности — как гейм-дизайнер, создающий мир, в котором игрок сам выбирает путь.
Об авторе
Мария Аранзасу Перес Индавереа — исследовательница из Мехико, выпускница Университета Сантьяго-де-Компостела (Испания) по специальности «История искусства». Она обучалась также в Сорбонне (Université Paris I, Panthéon-Sorbonne) и Технологическом университете Делфта (TU Delft). На момент публикации — аспирантка, изучающая взаимосвязи между новыми медиа, особенно видеоиграми, архитектурой и городом.
--
Источник: María Aránzazu Pérez Indaverea, Convergence between Architecture and Videogames. The Case of The Netherlands. In: Navigating Cybercultures, ed. Nicholas Van Orden, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013, pp. 43–56.
Мария Аранзасу Перес Индавереа — исследовательница из Мехико, выпускница Университета Сантьяго-де-Компостела (Испания) по специальности «История искусства». Она обучалась также в Сорбонне (Université Paris I, Panthéon-Sorbonne) и Технологическом университете Делфта (TU Delft). На момент публикации — аспирантка, изучающая взаимосвязи между новыми медиа, особенно видеоиграми, архитектурой и городом.
--
Источник: María Aránzazu Pérez Indaverea, Convergence between Architecture and Videogames. The Case of The Netherlands. In: Navigating Cybercultures, ed. Nicholas Van Orden, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013, pp. 43–56.