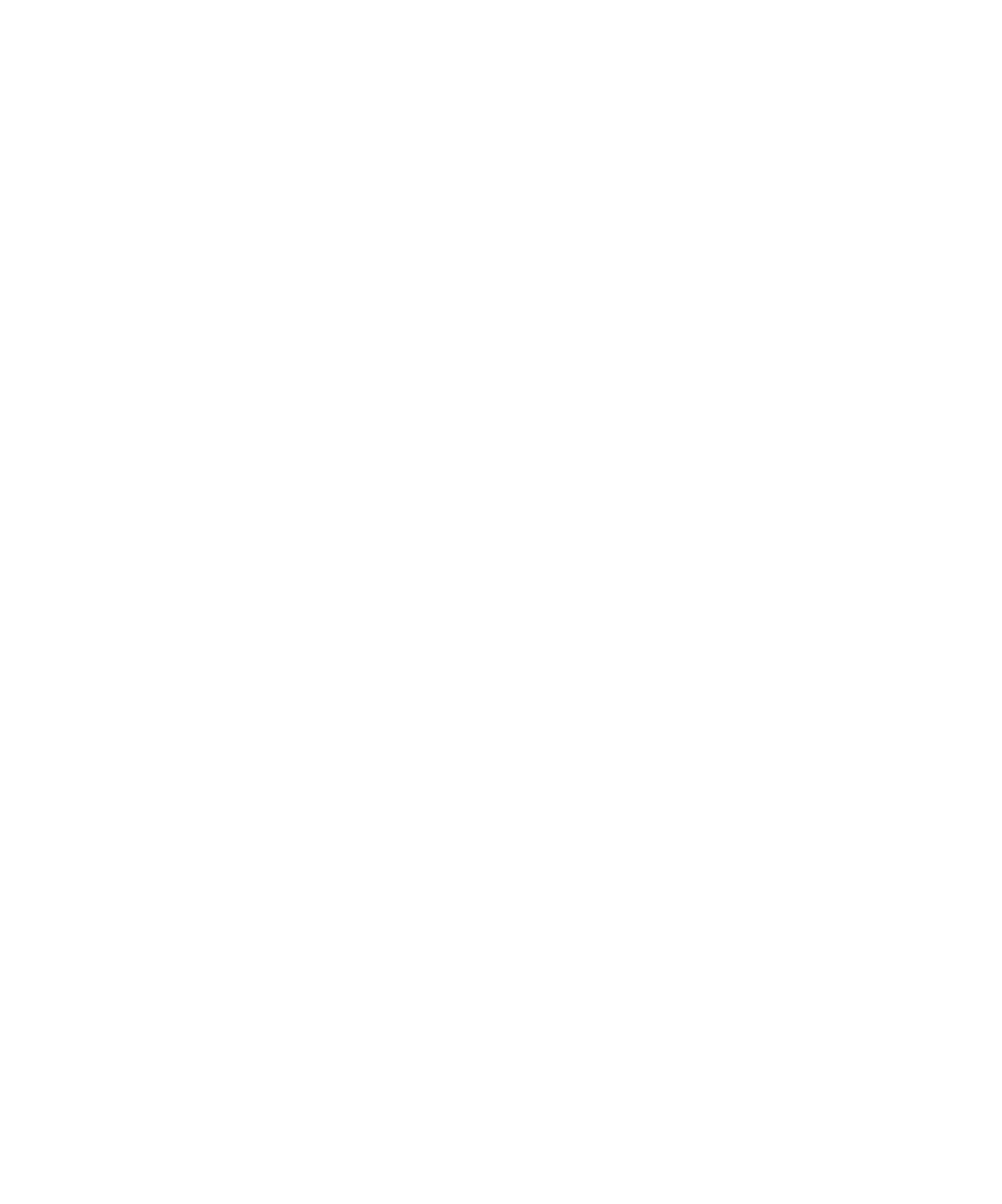#архитектура
Цифровые игры и американская готика
Краткий пересказ-перевод статьи Тани Кживински «Цифровые игры и американская готика: исследование грамматики готических игр», опубликованной в 2013 году в журнале Intersemiose.
Источник: Tanya Krzywinska, Digital Games and the American Gothic: Investigating Gothic Game Grammar. In: Intersemiose. Revista Digital, vol. 2, no. 4, 2013, pp. 207–224.
Доступно онлайн: https://www.neliufpe.com.br/wp-content/uploads/2014/02/12.pdf
Доступно онлайн: https://www.neliufpe.com.br/wp-content/uploads/2014/02/12.pdf
Американская готика давно вышла за пределы литературы и кино — сегодня она живёт и в цифровых играх. Британская исследовательница Таня Кживинска показывает, что игры не просто воспроизводят знакомые мотивы — исчезновение жены, зловещие леса, теории заговора, — но и меняют саму структуру восприятия готики. Игрок оказывается не пассивным зрителем, а участником таинственного расследования, где граница между вымыслом и реальностью становится особенно зыбкой.
Во вступлении статьи Таня Кживинска поднимает вопрос о том, что вообще значит называть цифровую игру «американской готикой». Она отмечает, что здесь возможны разные интерпретации. Может ли игра считаться американской готикой, если она опирается на традиции и образы этого направления? Или достаточно того, что действие происходит в США? А, возможно, всё дело в том, что игра создана американской студией?
Кживинска подчеркивает, что в этих случаях акцент делается на «национальном оттенке» (national accent) игры — то есть на том, как американский контекст влияет на то, как именно готика проявляется в проекте. Такой подход логично вписывается в более широкий социокультурный способ анализа, когда произведение рассматривают через призму культурной среды, в которой оно создано.
Однако, по мнению автора, у этого подхода есть слабость: он ставит культуру выше самого текста, а не рассматривает культуру как неотъемлемую часть текста. В случае с видеоиграми это особенно важно, потому что игры, в которых используются элементы американской готики, далеко не всегда создаются американцами. Более того, образ Америки внутри таких игр — это не отражение реальности, а сложный текстуальный конструкт, сотканный из интертекстуальных и межкультурных отсылок.
Кживинска обращает внимание и на то, что у каждого медиума — книги, кино, игры — есть свои особенности формы, и именно эти особенности часто сильнее определяют, как готика будет проявляться, чем так называемый «национальный акцент». Цифровые игры, по её мнению, обладают уникальными формальными свойствами, которые влияют на адаптацию готики к игровому пространству.
Ещё одна особенность — в отличие от литературы или телевидения, термин «американская готика» почти не используется в отношении видеоигр, ни в коммерческом, ни в академическом контексте. Игры чаще классифицируют по основному действию игрока — шутеры, ролевые игры и так далее. Тем не менее, Кживинска уверена, что готика — особенно американская её разновидность — проникает практически во все игровые жанры.
Автор предлагает понимать американскую готику скорее как один из «оттенков» готического, как определённый акцент внутри этого широкого культурного поля. Готическая традиция, как подчёркивает Кживинска, имеет долгую историю трансформаций и распространения, и сегодня существует целая палитра её национальных и культурных вариаций. Американская готика — лишь одна из таких вариаций.
Ссылаясь на британского теоретика Фреда Боттинга (Botting, 1996), Кживинска напоминает, что готика легко пересекает границы и адаптируется к разным медиумам — от романов и комиксов до кино, сериалов и цифровых игр. Но если мы заявляем, что конкретная игра обладает «американским акцентом» готики, это требует отдельного анализа: кто её создавал, какие темы и образы используются, как она взаимодействует с национальным культурным контекстом.
По мнению Кживински, утверждение, что американская готика в игре напрямую связана с национальностью её авторов, проблематично. В отличие от классических примеров вроде произведений американских писателей Эдгара Аллана По или Говарда Лавкрафта, современные игры обычно создаются интернациональными командами, а авторство носит коллективный характер и подчинено коммерческим целям и требованиям жанра.
Кживинска также подчёркивает, что американская культура сегодня не замкнута внутри национальных границ — она глобальна, и её элементы активно потребляются по всему миру. Например, сериал «Баффи — истребительница вампиров» имел международную аудиторию, несмотря на его американское происхождение. Аналогичным образом, игры вроде японской серии Silent Hill создаются за пределами США, но используют американский сеттинг и готические темы.
Таким образом, что считать «американской готикой» в цифровых играх — вопрос сложный и неоднозначный. Но, как подчёркивает Кживинска, погружение в эту запутанную тему помогает лучше понять современную игровую форму и то, как она меняет способы переживания готического.
В заключение вступления автор отмечает, что исследование американской готики в играх неизбежно затрагивает более широкие вопросы — формы, содержания, авторства, коммерции и способов взаимодействия игрока с текстом. По мнению Кживински, американская готика уже прочно вошла в универсальную игровую «грамматику», став неотъемлемой частью глобального игрового языка.
Кживинска подчеркивает, что в этих случаях акцент делается на «национальном оттенке» (national accent) игры — то есть на том, как американский контекст влияет на то, как именно готика проявляется в проекте. Такой подход логично вписывается в более широкий социокультурный способ анализа, когда произведение рассматривают через призму культурной среды, в которой оно создано.
Однако, по мнению автора, у этого подхода есть слабость: он ставит культуру выше самого текста, а не рассматривает культуру как неотъемлемую часть текста. В случае с видеоиграми это особенно важно, потому что игры, в которых используются элементы американской готики, далеко не всегда создаются американцами. Более того, образ Америки внутри таких игр — это не отражение реальности, а сложный текстуальный конструкт, сотканный из интертекстуальных и межкультурных отсылок.
Кживинска обращает внимание и на то, что у каждого медиума — книги, кино, игры — есть свои особенности формы, и именно эти особенности часто сильнее определяют, как готика будет проявляться, чем так называемый «национальный акцент». Цифровые игры, по её мнению, обладают уникальными формальными свойствами, которые влияют на адаптацию готики к игровому пространству.
Ещё одна особенность — в отличие от литературы или телевидения, термин «американская готика» почти не используется в отношении видеоигр, ни в коммерческом, ни в академическом контексте. Игры чаще классифицируют по основному действию игрока — шутеры, ролевые игры и так далее. Тем не менее, Кживинска уверена, что готика — особенно американская её разновидность — проникает практически во все игровые жанры.
Автор предлагает понимать американскую готику скорее как один из «оттенков» готического, как определённый акцент внутри этого широкого культурного поля. Готическая традиция, как подчёркивает Кживинска, имеет долгую историю трансформаций и распространения, и сегодня существует целая палитра её национальных и культурных вариаций. Американская готика — лишь одна из таких вариаций.
Ссылаясь на британского теоретика Фреда Боттинга (Botting, 1996), Кживинска напоминает, что готика легко пересекает границы и адаптируется к разным медиумам — от романов и комиксов до кино, сериалов и цифровых игр. Но если мы заявляем, что конкретная игра обладает «американским акцентом» готики, это требует отдельного анализа: кто её создавал, какие темы и образы используются, как она взаимодействует с национальным культурным контекстом.
По мнению Кживински, утверждение, что американская готика в игре напрямую связана с национальностью её авторов, проблематично. В отличие от классических примеров вроде произведений американских писателей Эдгара Аллана По или Говарда Лавкрафта, современные игры обычно создаются интернациональными командами, а авторство носит коллективный характер и подчинено коммерческим целям и требованиям жанра.
Кживинска также подчёркивает, что американская культура сегодня не замкнута внутри национальных границ — она глобальна, и её элементы активно потребляются по всему миру. Например, сериал «Баффи — истребительница вампиров» имел международную аудиторию, несмотря на его американское происхождение. Аналогичным образом, игры вроде японской серии Silent Hill создаются за пределами США, но используют американский сеттинг и готические темы.
Таким образом, что считать «американской готикой» в цифровых играх — вопрос сложный и неоднозначный. Но, как подчёркивает Кживинска, погружение в эту запутанную тему помогает лучше понять современную игровую форму и то, как она меняет способы переживания готического.
В заключение вступления автор отмечает, что исследование американской готики в играх неизбежно затрагивает более широкие вопросы — формы, содержания, авторства, коммерции и способов взаимодействия игрока с текстом. По мнению Кживински, американская готика уже прочно вошла в универсальную игровую «грамматику», став неотъемлемой частью глобального игрового языка.
Цифровые игры как медиум: почему важно учитывать форму
Во второй части статьи Таня Кживинска объясняет, почему для полноценного понимания американской готики в цифровых играх необходимо сначала разобраться с особенностями самих игр как медиума. Автор подчёркивает: игры принципиально отличаются от других видов медиа — литературы, кино или телевидения — в первую очередь своей структурой и способами вовлечения пользователя.
Кживинска ссылается на французского философа Роджера Кайуа, который ещё в 2001 году разделил понятия «свободная игра» (paidea) и «игра с правилами» (ludus). Именно последнее определение ближе к тому, что мы называем цифровыми играми: это структуры, основанные на чётких правилах и определённых условиях победы.
Однако, по словам Кживински, цифровые игры отличаются от настольных игр или карточных аналогов тем, что они полностью являются вычислительными артефактами. Здесь правила жёстко закодированы в программе, а игрок взаимодействует не с физическими объектами, а с экранными изображениями через интерфейс — мышь, клавиатуру, контроллер. Кживинска подчёркивает: даже привычные карточные игры вроде «Пасьянса», перенесясь на экран, приобретают новое измерение, в котором игрок уже не может напрямую влиять на правила или спорить о ходе игры.
Автор отмечает, что цифровые игры — это больше, чем просто набор правил. Они включают в себя нарративные и визуальные элементы, которые помогают игроку интерпретировать происходящее. Кживинска ссылается на работы американских исследователей Джанет Мюррей и Барри Аткинса, которые утверждали, что игры создают особые виды художественных миров и симуляций. В отличие от настольных игр, где игроки сами следят за правилами, в цифровых играх эта функция полностью передаётся компьютеру, а игроку остаётся лишь интерпретировать и реагировать на происходящее.
Автор приводит примеры настольных игр с готической тематикой — «Зов Ктулху», «Ужас Аркхэма», «The Glooms», — но сразу уточняет, что её интерес сосредоточен на цифровых играх. Они, по её словам, имеют экранную, аудиовизуальную природу, схожую с кино или телевидением, но отличаются активным участием игрока и интерактивностью.
Чтобы объяснить специфику цифровых игр, Кживинска предлагает мыслить их как систему «входа-выхода», где игрок реагирует на происходящее на экране, а игра — на действия игрока. Это постоянное взаимодействие и ощущение обратной связи создаёт иллюзию агентности и присутствия в виртуальном пространстве. Например, если игрок пытается открыть дверь без ключа, игра реагирует звуком или текстом, намекая, что нужно искать дальше. В этом, по словам автора, игрок становится похож на готического детектива, разгадывающего тайны мира игры.
Кживинска вводит понятие «игровой грамотности» (game literacy) — способности игрока читать и интерпретировать язык игры. Сюда входят не только очевидные интерфейсные элементы (например, клавиши «W» и «пробел» для передвижения и прыжка), но и более сложные знаки: необычные цвета объектов, звуки неудачи, визуальные аномалии. Игры заимствуют элементы уже существующей игровой грамматики — жанры, стили, темы — и формируют собственный, узнаваемый словарь взаимодействия с игроком.
Автор также отмечает, что сама структура расследования и поиска загадок — классический мотив американской готики — идеально вписывается в логику цифровых игр. В литературе, например у Эдгара Аллана По, читатель следует за детективом, наблюдая за его выводами. В игре же сам игрок берёт на себя роль следователя, исследует мир, разгадывает головоломки и делает выборы, которые могут повлиять на развитие истории.
В качестве примеров таких «агентных» игр Кживинска упоминает:
Тем не менее, автор подчёркивает, что даже там, где игроку предоставляется выбор, мир игры остаётся жёстко спроектированным и авторским. Это может вызывать фрустрацию: когда игрок сталкивается с нелогичными ограничениями или невозможностью действовать за пределами заложенных правил.
Кживинска приходит к выводу, что ключевая особенность цифровых игр — их интерактивность и прямое обращение к игроку. Именно поэтому готика в играх обычно строится либо вокруг исследования, либо вокруг других активностей, в которые встроены элементы тайны, ужаса и неопределённости.
Таким образом, структура и механики цифровых игр не просто дополняют готическую атмосферу, а трансформируют её, создавая новые способы переживания классических мотивов.
Во второй части статьи Таня Кживинска объясняет, почему для полноценного понимания американской готики в цифровых играх необходимо сначала разобраться с особенностями самих игр как медиума. Автор подчёркивает: игры принципиально отличаются от других видов медиа — литературы, кино или телевидения — в первую очередь своей структурой и способами вовлечения пользователя.
Кживинска ссылается на французского философа Роджера Кайуа, который ещё в 2001 году разделил понятия «свободная игра» (paidea) и «игра с правилами» (ludus). Именно последнее определение ближе к тому, что мы называем цифровыми играми: это структуры, основанные на чётких правилах и определённых условиях победы.
Однако, по словам Кживински, цифровые игры отличаются от настольных игр или карточных аналогов тем, что они полностью являются вычислительными артефактами. Здесь правила жёстко закодированы в программе, а игрок взаимодействует не с физическими объектами, а с экранными изображениями через интерфейс — мышь, клавиатуру, контроллер. Кживинска подчёркивает: даже привычные карточные игры вроде «Пасьянса», перенесясь на экран, приобретают новое измерение, в котором игрок уже не может напрямую влиять на правила или спорить о ходе игры.
Автор отмечает, что цифровые игры — это больше, чем просто набор правил. Они включают в себя нарративные и визуальные элементы, которые помогают игроку интерпретировать происходящее. Кживинска ссылается на работы американских исследователей Джанет Мюррей и Барри Аткинса, которые утверждали, что игры создают особые виды художественных миров и симуляций. В отличие от настольных игр, где игроки сами следят за правилами, в цифровых играх эта функция полностью передаётся компьютеру, а игроку остаётся лишь интерпретировать и реагировать на происходящее.
Автор приводит примеры настольных игр с готической тематикой — «Зов Ктулху», «Ужас Аркхэма», «The Glooms», — но сразу уточняет, что её интерес сосредоточен на цифровых играх. Они, по её словам, имеют экранную, аудиовизуальную природу, схожую с кино или телевидением, но отличаются активным участием игрока и интерактивностью.
Чтобы объяснить специфику цифровых игр, Кживинска предлагает мыслить их как систему «входа-выхода», где игрок реагирует на происходящее на экране, а игра — на действия игрока. Это постоянное взаимодействие и ощущение обратной связи создаёт иллюзию агентности и присутствия в виртуальном пространстве. Например, если игрок пытается открыть дверь без ключа, игра реагирует звуком или текстом, намекая, что нужно искать дальше. В этом, по словам автора, игрок становится похож на готического детектива, разгадывающего тайны мира игры.
Кживинска вводит понятие «игровой грамотности» (game literacy) — способности игрока читать и интерпретировать язык игры. Сюда входят не только очевидные интерфейсные элементы (например, клавиши «W» и «пробел» для передвижения и прыжка), но и более сложные знаки: необычные цвета объектов, звуки неудачи, визуальные аномалии. Игры заимствуют элементы уже существующей игровой грамматики — жанры, стили, темы — и формируют собственный, узнаваемый словарь взаимодействия с игроком.
Автор также отмечает, что сама структура расследования и поиска загадок — классический мотив американской готики — идеально вписывается в логику цифровых игр. В литературе, например у Эдгара Аллана По, читатель следует за детективом, наблюдая за его выводами. В игре же сам игрок берёт на себя роль следователя, исследует мир, разгадывает головоломки и делает выборы, которые могут повлиять на развитие истории.
В качестве примеров таких «агентных» игр Кживинска упоминает:
- Bioshock (2007) — где судьба персонажей и концовка зависят от того, решит ли игрок убивать «маленьких сестёр»;
- Silent Hill 2 (2003) — с пятью различными концовками;
- House of the Dead, Left 4 Dead, The Secret World, Slender, The Binding of Isaac — разнообразные примеры готических игр, от аркадных шутеров до сложных нарративных или арт-проектов.
Тем не менее, автор подчёркивает, что даже там, где игроку предоставляется выбор, мир игры остаётся жёстко спроектированным и авторским. Это может вызывать фрустрацию: когда игрок сталкивается с нелогичными ограничениями или невозможностью действовать за пределами заложенных правил.
Кживинска приходит к выводу, что ключевая особенность цифровых игр — их интерактивность и прямое обращение к игроку. Именно поэтому готика в играх обычно строится либо вокруг исследования, либо вокруг других активностей, в которые встроены элементы тайны, ужаса и неопределённости.
Таким образом, структура и механики цифровых игр не просто дополняют готическую атмосферу, а трансформируют её, создавая новые способы переживания классических мотивов.
Адаптация американской готики для цифровых игр
После обсуждения ключевых особенностей цифровых игр как медиума, Таня Кживинска переходит к анализу того, как именно американская готика адаптируется под игровую форму. В этой части статьи автор подробно рассматривает на примере конкретных игр, как сюжетные мотивы, образы и темы американской готики перекраиваются под специфику игрового опыта.
После обсуждения ключевых особенностей цифровых игр как медиума, Таня Кживинска переходит к анализу того, как именно американская готика адаптируется под игровую форму. В этой части статьи автор подробно рассматривает на примере конкретных игр, как сюжетные мотивы, образы и темы американской готики перекраиваются под специфику игрового опыта.
Alan Wake: Потеря смысла
Кживинска начинает с подробного разбора игры Alan Wake, созданной финской студией Remedy при поддержке Microsoft. Игра вышла в 2010 году (версия для ПК — в 2012-м) и предназначалась для международного рынка. Как подчёркивает автор, Remedy уже имела опыт работы с американскими культурными кодами — их предыдущая серия Max Payne использовала эстетику американского «жёсткого нуара» (Hard-boiled Noir).
В Alan Wake перед игроком снова предстает типичный герой американской готики — мужчина, который буквально «теряет нить повествования», а вместе с ней и стабильность своей привычной жизни. По структуре и атмосфере игра сочетает в себе элементы сериала Twin Peaks американского режиссёра Дэвида Линча и произведений Стивена Кинга. Кроме того, Кживинска отмечает многочисленные второстепенные отсылки к классике американского готического ужаса: произведениям Говарда Лавкрафта, фильму Птицы Альфреда Хичкока (1963), Избавлению Джона Бурмана (1972) и зомби-фильмам Джорджа Ромеро.
Игрок управляет главным героем — писателем по имени Алан Уэйк. Перспектива подачи ограничена его точкой зрения, что усилено закадровым повествованием от лица персонажа и многочисленными кат-сценами с диалогами. Как и в романе Кинга Мизери, сюжет начинается с автокатастрофы в изолированном лесном районе — «backwoods», что традиционно в американской готике символизирует первобытность, подсознание и угрозу.
Сюжет закручивается вокруг загадочного предположения: кошмар, переживаемый героем, основан на книге, которую он якобы написал, но совершенно не помнит её содержание. По мнению Кживински, это классический мотив готического сна и расстройства логики повествования, когда нарушается привычный порядок времени и причинно-следственных связей. Эта двусмысленность — важнейшая часть стилистики игры, где размываются границы между реальностью и вымыслом.
Американский контекст, как отмечает Кживинска, выражается не только через образы, но и через пространство: игра разворачивается в вымышленном американском городке Брайт-Фолс, штат Вашингтон. В дополнение к этому — густые отсылки к произведениям Стивена Кинга и американской традиции «лесного ужаса» (backwoods horror). Как и в текстах американских готических авторов — Эдгара По, Германа Мелвилла или Генри Джеймса — герой оказывается окружён непонятными, тревожными знаками и постоянно сталкивается с «интерпретационной неопределённостью» (понятие из исследований Эрика Савоя).
Исчезновение жены Уэйка, вокруг которого строится сюжет, также соответствует характерной для американской готики, по словам Савоя, одержимости личным, семейным и национальным прошлым.
Однако Кживинска задаётся вопросом: как эта эстетика переводится на язык игрового процесса?
Как и во всех играх, сюжет, персонажи и темы Alan Wake завязаны на конкретные игровые задачи. Уже в самом начале игрок сталкивается с «тьмой», которая принимает разные формы и вынуждает его действовать. Эта зловещая сила превращает обычных людей в убийц, что отсылает к целому ряду американских готических произведений — от фильма Две тысячи маньяков (1964) до Сияния Стивена Кинга и его экранизации Стэнли Кубрика.
Кроме того, по миру разбросаны враги-зомби — шахтёры, лесорубы, местные жители, — которых можно уничтожить только с помощью особого игрового инструмента — света.
Здесь, по мнению Кживински, прослеживается характерная для готики бинарность добра и зла, классическая схема борьбы. Однако механика игры, основанная на использовании света, делает эту тему не только сюжетной, но и геймплейной. Свет — фонари, уличные лампы, автомобильные фары, прожекторы — становится главным средством защиты от тьмы. Игрок вынужден исследовать пространство в поисках источников света и батареек.
Эта игровая механика не только логически вписывается в сюжет, но и работает на символическом уровне, придавая игре цельность. Кживинска отмечает, что подавляющее большинство готических игр сохраняют традиционное разделение на добро и зло — отчасти из-за регуляторных ограничений, отчасти потому, что это упрощает для игрока моральный выбор и погружение в историю.
Однако в Alan Wake всё не так просто. Свет здесь — всего лишь инструмент, а не самостоятельная сила добра. Сам Уэйк, вероятно, причастен к появлению тьмы: по ходу игры он находит страницы той самой забытой книги, которые намекают на его собственную роль в происходящем. Таким образом, моральные и метафизические границы размыты. Герой — не активный борец со злом, а скорее жертва, бегущий и растерянный.
Кживинска также подчёркивает, что игра активно «ремедирует» (по терминологии Болтера и Грусина) другие американские готические тексты и форматы. Коллекционное издание игры выполнено в виде книги, по игровому миру расставлены телевизоры, транслирующие передачи в духе Сумеречной зоны, а также книги, газеты и радиоприёмники. Структура самой игры построена по модели телесериала — с эпизодами, клиффхангерами и пересказами предыдущих событий.
Этот приём явно отсылает к традициям американского телевидения, а также к сериализованным готическим романам XIX века, например, Чарльза Диккенса.
Однако, как подчёркивает Кживинска, здесь важна не просто структурная калька, а то, что игра предъявляет к игроку реальные требования. Игрок должен демонстрировать определённые навыки: если он не справится, не сможет «повысить квалификацию», доступ к продолжению истории будет закрыт. Именно это — способность игры «сопротивляться» своему зрителю — отличает цифровые игры от других медиа.
Автор также упоминает, что Alan Wake изначально задумывалась как игра с открытым миром, но разработчики отказались от этой идеи. Они поняли, что структура открытого мира плохо сочетается с атмосферой готического ужаса: сложно контролировать порядок, в котором игрок сталкивается с ключевыми элементами сюжета. Поэтому студия Remedy вернулась к линейной структуре, типичной для одиночных приключенческих игр, чтобы сохранить ритм, напряжение и драматизм — важные составляющие американской готики.
Кживинска сравнивает эту структуру с театром Гран-Гиньоль и аттракционами вроде «Поезда призраков» — игрока помещают на «рельсы» и везут по подготовленному маршруту, создавая чувство ужаса и неизвестности, лишая возможности замедлить темп и заглянуть за кулисы.
Тем не менее, как замечает автор, это не значит, что открытый мир несовместим с американской готикой — хороший пример противоположного подхода Кживинска рассматривает далее на примере игры The Secret World.
Кживинска начинает с подробного разбора игры Alan Wake, созданной финской студией Remedy при поддержке Microsoft. Игра вышла в 2010 году (версия для ПК — в 2012-м) и предназначалась для международного рынка. Как подчёркивает автор, Remedy уже имела опыт работы с американскими культурными кодами — их предыдущая серия Max Payne использовала эстетику американского «жёсткого нуара» (Hard-boiled Noir).
В Alan Wake перед игроком снова предстает типичный герой американской готики — мужчина, который буквально «теряет нить повествования», а вместе с ней и стабильность своей привычной жизни. По структуре и атмосфере игра сочетает в себе элементы сериала Twin Peaks американского режиссёра Дэвида Линча и произведений Стивена Кинга. Кроме того, Кживинска отмечает многочисленные второстепенные отсылки к классике американского готического ужаса: произведениям Говарда Лавкрафта, фильму Птицы Альфреда Хичкока (1963), Избавлению Джона Бурмана (1972) и зомби-фильмам Джорджа Ромеро.
Игрок управляет главным героем — писателем по имени Алан Уэйк. Перспектива подачи ограничена его точкой зрения, что усилено закадровым повествованием от лица персонажа и многочисленными кат-сценами с диалогами. Как и в романе Кинга Мизери, сюжет начинается с автокатастрофы в изолированном лесном районе — «backwoods», что традиционно в американской готике символизирует первобытность, подсознание и угрозу.
Сюжет закручивается вокруг загадочного предположения: кошмар, переживаемый героем, основан на книге, которую он якобы написал, но совершенно не помнит её содержание. По мнению Кживински, это классический мотив готического сна и расстройства логики повествования, когда нарушается привычный порядок времени и причинно-следственных связей. Эта двусмысленность — важнейшая часть стилистики игры, где размываются границы между реальностью и вымыслом.
Американский контекст, как отмечает Кживинска, выражается не только через образы, но и через пространство: игра разворачивается в вымышленном американском городке Брайт-Фолс, штат Вашингтон. В дополнение к этому — густые отсылки к произведениям Стивена Кинга и американской традиции «лесного ужаса» (backwoods horror). Как и в текстах американских готических авторов — Эдгара По, Германа Мелвилла или Генри Джеймса — герой оказывается окружён непонятными, тревожными знаками и постоянно сталкивается с «интерпретационной неопределённостью» (понятие из исследований Эрика Савоя).
Исчезновение жены Уэйка, вокруг которого строится сюжет, также соответствует характерной для американской готики, по словам Савоя, одержимости личным, семейным и национальным прошлым.
Однако Кживинска задаётся вопросом: как эта эстетика переводится на язык игрового процесса?
Как и во всех играх, сюжет, персонажи и темы Alan Wake завязаны на конкретные игровые задачи. Уже в самом начале игрок сталкивается с «тьмой», которая принимает разные формы и вынуждает его действовать. Эта зловещая сила превращает обычных людей в убийц, что отсылает к целому ряду американских готических произведений — от фильма Две тысячи маньяков (1964) до Сияния Стивена Кинга и его экранизации Стэнли Кубрика.
Кроме того, по миру разбросаны враги-зомби — шахтёры, лесорубы, местные жители, — которых можно уничтожить только с помощью особого игрового инструмента — света.
Здесь, по мнению Кживински, прослеживается характерная для готики бинарность добра и зла, классическая схема борьбы. Однако механика игры, основанная на использовании света, делает эту тему не только сюжетной, но и геймплейной. Свет — фонари, уличные лампы, автомобильные фары, прожекторы — становится главным средством защиты от тьмы. Игрок вынужден исследовать пространство в поисках источников света и батареек.
Эта игровая механика не только логически вписывается в сюжет, но и работает на символическом уровне, придавая игре цельность. Кживинска отмечает, что подавляющее большинство готических игр сохраняют традиционное разделение на добро и зло — отчасти из-за регуляторных ограничений, отчасти потому, что это упрощает для игрока моральный выбор и погружение в историю.
Однако в Alan Wake всё не так просто. Свет здесь — всего лишь инструмент, а не самостоятельная сила добра. Сам Уэйк, вероятно, причастен к появлению тьмы: по ходу игры он находит страницы той самой забытой книги, которые намекают на его собственную роль в происходящем. Таким образом, моральные и метафизические границы размыты. Герой — не активный борец со злом, а скорее жертва, бегущий и растерянный.
Кживинска также подчёркивает, что игра активно «ремедирует» (по терминологии Болтера и Грусина) другие американские готические тексты и форматы. Коллекционное издание игры выполнено в виде книги, по игровому миру расставлены телевизоры, транслирующие передачи в духе Сумеречной зоны, а также книги, газеты и радиоприёмники. Структура самой игры построена по модели телесериала — с эпизодами, клиффхангерами и пересказами предыдущих событий.
Этот приём явно отсылает к традициям американского телевидения, а также к сериализованным готическим романам XIX века, например, Чарльза Диккенса.
Однако, как подчёркивает Кживинска, здесь важна не просто структурная калька, а то, что игра предъявляет к игроку реальные требования. Игрок должен демонстрировать определённые навыки: если он не справится, не сможет «повысить квалификацию», доступ к продолжению истории будет закрыт. Именно это — способность игры «сопротивляться» своему зрителю — отличает цифровые игры от других медиа.
Автор также упоминает, что Alan Wake изначально задумывалась как игра с открытым миром, но разработчики отказались от этой идеи. Они поняли, что структура открытого мира плохо сочетается с атмосферой готического ужаса: сложно контролировать порядок, в котором игрок сталкивается с ключевыми элементами сюжета. Поэтому студия Remedy вернулась к линейной структуре, типичной для одиночных приключенческих игр, чтобы сохранить ритм, напряжение и драматизм — важные составляющие американской готики.
Кживинска сравнивает эту структуру с театром Гран-Гиньоль и аттракционами вроде «Поезда призраков» — игрока помещают на «рельсы» и везут по подготовленному маршруту, создавая чувство ужаса и неизвестности, лишая возможности замедлить темп и заглянуть за кулисы.
Тем не менее, как замечает автор, это не значит, что открытый мир несовместим с американской готикой — хороший пример противоположного подхода Кживинска рассматривает далее на примере игры The Secret World.
The Secret World: Заговор знаков
В этой части статьи Таня Кживинска переходит к анализу игры The Secret World, выпущенной в июне 2012 года норвежской студией Funcom. Игра ориентировалась как на европейский, так и на американский рынок. Кживинска подчёркивает, что проект значительно расширил привычную «грамматику» жанра MMORPG (массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр), впервые сделав готику и оккультные мотивы центральным элементом игрового опыта.
В начале игры игрок создаёт персонажа, выбирая его внешность и принадлежность к одной из трёх фракций: Драконы, Тамплиеры или Иллюминаты. В отличие от большинства MMORPG вроде World of Warcraft, в The Secret World нет привычных фэнтезийных рас: все персонажи — люди, и игроку доступно множество вариаций внешности и одежды. Сеттинг игры — это не вымышленный мир, а переосмысленная версия нашей реальности, в которую добавлен слой сверхъестественного, что, по словам Кживински, соответствует эстетике магического реализма.
Сюжет вращается вокруг темы оккультизма. Над миром нависла угроза со стороны различных сверхъестественных сил, часть из которых организована, а часть действует хаотично. Игрок оказывается на острове Соломона у побережья Новой Англии — именно там начинается вспышка лавкрафтовского мифоса.
Кживинска обращает внимание, что выбор Новой Англии для начала игры — не случайность. Этот регион имеет мощный «региональный акцент» американской готики, в первую очередь связанный с творчеством Говарда Лавкрафта.
Игрок прибывает в главный город острова — Кингсмут — и обнаруживает классическую готическую картину: борьбу между живыми и мертвецами. Сначала может показаться, что это стандартный «зомби-сценарий», но очень скоро становится понятно: зомби — лишь верхушка айсберга, а настоящая угроза гораздо глубже и сложнее.
В отличие от Alan Wake, где пространство линейно и ограничено, The Secret World предлагает открытую структуру. Игрок волен исследовать мир, выполнять квесты, заниматься торговлей, вступать в конфликты с другими фракциями. Игра строится вокруг постепенного накопления опыта, медленного развития персонажа и создания богатого, многослойного мира. Этот подход влияет на то, как именно американская готика адаптируется внутри игры: вместо единого, связного нарратива игрок сталкивается с множеством пересекающихся акцентов — от классической американской готики до стимпанка, викторианской готики, восточной мистики, народной магии и даже хаос-магии с отсылками к постквантовым теориям.
Кингсмут — пространство, насыщенное отсылками. Уже само название звучит как вариация знаменитого лавкрафтовского Инсмута из «Зова Ктулху» и «Тени над Инсмутом». По улицам города разбросаны знаковые топонимы: Дануичская дорога, Проспект Аркхема, Улица Лавкрафта. Есть и более очевидные отсылки: Залив По, Улица Вязов. Все эти элементы сразу же погружают внимательного игрока в пространство американской готики.
Игра густо насыщена интертекстами. На Дануичской дороге, например, можно найти ящики с тухлыми кальмарами и надписью «Прямо с глубин — к вам на стол» и «Сделано в США». Следуя по следам этих ящиков, игрок сталкивается с гигантским морским монстром с щупальцами — практически Ктулху, хотя для знатоков Лавкрафта очевидна отсылка скорее к Дагону.
Сочетая американскую готику с магическим реализмом, The Secret World предлагает уникальную смесь мифа и реальности. По словам Кживински, игра строится как своего рода теоретический заговор: каждый знак на экране — часть скрытой системы, которую игрок должен распознать и расшифровать.
Наиболее ярким примером этого подхода служит ранний квест «Код Кингсмута», где игрок исследует город, разыскивая знаки и символы, оставленные отцами-основателями — членами секты Иллюминатов. Эти знаки раскрывают древние заговоры и борьбу за власть.
Кживинска подчёркивает, что в целом такая структура требует от игрока «внимательного чтения» окружающего пространства — классического приёма как в литературе, так и в готической традиции. Здесь вновь появляется параллель с детективом Дюпеном из рассказов Эдгара По — архетипичным героем американской готики, раскрывающим тайны через наблюдательность и сбор фрагментов информации.
Такие элементы, как «лоры» (фрагменты текста, раскрывающие бэкграунд мира), разбросаны по игровому пространству. Игрок, собрав их, узнаёт, например, историю моряка, столкнувшегося с ужасами на море, чей корабль теперь пришвартован в зловещей гавани Кингсмута. Литературный стиль этих историй сознательно стилизован под тексты Лавкрафта.
Другой фрагмент лора — «Туман» — отсылает к произведению Стивена Кинга о приближении таинственного смертельного тумана. В самом Кингсмуте обитают колоритные персонажи, вписанные в мифологию американской готики: байкер-философ и подрывник Сэнди «Лось» Янсен, пожилая, но вооружённая и решительная Норма Крид, а также типичный для жанра «писатель ужасов» — здесь это Сэм Крейг, пьющий, разочарованный, живущий в маяке на утёсе, как своеобразная аллюзия и на Стивена Кинга, и на Алана Уэйка.
По словам Кживински, нарратив The Secret World — это не просто фон для геймплея, а сложная мозаика историй, построенная из фрагментов и намёков, которая активно вовлекает игрока в процесс интерпретации.
Особое место занимают «исследовательские» квесты, напоминающие логические загадки и головоломки из рассказов По. Кживинска приводит пример задания «Ангелы и демоны», где игрок расследует деятельность подозрительной компании. В офисе персонаж находит тело сотрудника и его пропуск. Чтобы получить доступ к его почте, необходимо расшифровать загадку: «Моя фамилия знакома по классической литературе. А уровень доступа — ключ». На пропуске указано имя H. Glass и уровень доступа Gold-bug. Знатоки быстро поймут отсылку к рассказу По «Золотой жук», где важную роль играет криптографический шифр.
Эта игровая ситуация, по мнению Кживински, идеально иллюстрирует то, как The Secret World переводит американскую готику в игровую форму. Здесь объединяются реальность, миф, скрытые знаки и игра со знаниями игрока. Более того, наличие встроенного браузера позволяет игроку искать информацию вне игры — например, библейские ссылки для квеста «Код Кингсмута» или расшифровку из «Золотого жука».
Такое размытие границ между реальностью и вымыслом усиливает конспирологический эффект, характерный для готики. Как подчёркивает автор, ужасы всегда стремились убедить не только в «подвешенности неверия», но и в реальности самого ужаса.
Игра приглашает игрока глубже погружаться в текст, исследовать его как сложную систему знаков, что, по мнению Кживински, является важной инновацией в готическом игровом опыте и делает значительный вклад в развитие американской готики внутри цифровой культуры.
В этой части статьи Таня Кживинска переходит к анализу игры The Secret World, выпущенной в июне 2012 года норвежской студией Funcom. Игра ориентировалась как на европейский, так и на американский рынок. Кживинска подчёркивает, что проект значительно расширил привычную «грамматику» жанра MMORPG (массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр), впервые сделав готику и оккультные мотивы центральным элементом игрового опыта.
В начале игры игрок создаёт персонажа, выбирая его внешность и принадлежность к одной из трёх фракций: Драконы, Тамплиеры или Иллюминаты. В отличие от большинства MMORPG вроде World of Warcraft, в The Secret World нет привычных фэнтезийных рас: все персонажи — люди, и игроку доступно множество вариаций внешности и одежды. Сеттинг игры — это не вымышленный мир, а переосмысленная версия нашей реальности, в которую добавлен слой сверхъестественного, что, по словам Кживински, соответствует эстетике магического реализма.
Сюжет вращается вокруг темы оккультизма. Над миром нависла угроза со стороны различных сверхъестественных сил, часть из которых организована, а часть действует хаотично. Игрок оказывается на острове Соломона у побережья Новой Англии — именно там начинается вспышка лавкрафтовского мифоса.
Кживинска обращает внимание, что выбор Новой Англии для начала игры — не случайность. Этот регион имеет мощный «региональный акцент» американской готики, в первую очередь связанный с творчеством Говарда Лавкрафта.
Игрок прибывает в главный город острова — Кингсмут — и обнаруживает классическую готическую картину: борьбу между живыми и мертвецами. Сначала может показаться, что это стандартный «зомби-сценарий», но очень скоро становится понятно: зомби — лишь верхушка айсберга, а настоящая угроза гораздо глубже и сложнее.
В отличие от Alan Wake, где пространство линейно и ограничено, The Secret World предлагает открытую структуру. Игрок волен исследовать мир, выполнять квесты, заниматься торговлей, вступать в конфликты с другими фракциями. Игра строится вокруг постепенного накопления опыта, медленного развития персонажа и создания богатого, многослойного мира. Этот подход влияет на то, как именно американская готика адаптируется внутри игры: вместо единого, связного нарратива игрок сталкивается с множеством пересекающихся акцентов — от классической американской готики до стимпанка, викторианской готики, восточной мистики, народной магии и даже хаос-магии с отсылками к постквантовым теориям.
Кингсмут — пространство, насыщенное отсылками. Уже само название звучит как вариация знаменитого лавкрафтовского Инсмута из «Зова Ктулху» и «Тени над Инсмутом». По улицам города разбросаны знаковые топонимы: Дануичская дорога, Проспект Аркхема, Улица Лавкрафта. Есть и более очевидные отсылки: Залив По, Улица Вязов. Все эти элементы сразу же погружают внимательного игрока в пространство американской готики.
Игра густо насыщена интертекстами. На Дануичской дороге, например, можно найти ящики с тухлыми кальмарами и надписью «Прямо с глубин — к вам на стол» и «Сделано в США». Следуя по следам этих ящиков, игрок сталкивается с гигантским морским монстром с щупальцами — практически Ктулху, хотя для знатоков Лавкрафта очевидна отсылка скорее к Дагону.
Сочетая американскую готику с магическим реализмом, The Secret World предлагает уникальную смесь мифа и реальности. По словам Кживински, игра строится как своего рода теоретический заговор: каждый знак на экране — часть скрытой системы, которую игрок должен распознать и расшифровать.
Наиболее ярким примером этого подхода служит ранний квест «Код Кингсмута», где игрок исследует город, разыскивая знаки и символы, оставленные отцами-основателями — членами секты Иллюминатов. Эти знаки раскрывают древние заговоры и борьбу за власть.
Кживинска подчёркивает, что в целом такая структура требует от игрока «внимательного чтения» окружающего пространства — классического приёма как в литературе, так и в готической традиции. Здесь вновь появляется параллель с детективом Дюпеном из рассказов Эдгара По — архетипичным героем американской готики, раскрывающим тайны через наблюдательность и сбор фрагментов информации.
Такие элементы, как «лоры» (фрагменты текста, раскрывающие бэкграунд мира), разбросаны по игровому пространству. Игрок, собрав их, узнаёт, например, историю моряка, столкнувшегося с ужасами на море, чей корабль теперь пришвартован в зловещей гавани Кингсмута. Литературный стиль этих историй сознательно стилизован под тексты Лавкрафта.
Другой фрагмент лора — «Туман» — отсылает к произведению Стивена Кинга о приближении таинственного смертельного тумана. В самом Кингсмуте обитают колоритные персонажи, вписанные в мифологию американской готики: байкер-философ и подрывник Сэнди «Лось» Янсен, пожилая, но вооружённая и решительная Норма Крид, а также типичный для жанра «писатель ужасов» — здесь это Сэм Крейг, пьющий, разочарованный, живущий в маяке на утёсе, как своеобразная аллюзия и на Стивена Кинга, и на Алана Уэйка.
По словам Кживински, нарратив The Secret World — это не просто фон для геймплея, а сложная мозаика историй, построенная из фрагментов и намёков, которая активно вовлекает игрока в процесс интерпретации.
Особое место занимают «исследовательские» квесты, напоминающие логические загадки и головоломки из рассказов По. Кживинска приводит пример задания «Ангелы и демоны», где игрок расследует деятельность подозрительной компании. В офисе персонаж находит тело сотрудника и его пропуск. Чтобы получить доступ к его почте, необходимо расшифровать загадку: «Моя фамилия знакома по классической литературе. А уровень доступа — ключ». На пропуске указано имя H. Glass и уровень доступа Gold-bug. Знатоки быстро поймут отсылку к рассказу По «Золотой жук», где важную роль играет криптографический шифр.
Эта игровая ситуация, по мнению Кживински, идеально иллюстрирует то, как The Secret World переводит американскую готику в игровую форму. Здесь объединяются реальность, миф, скрытые знаки и игра со знаниями игрока. Более того, наличие встроенного браузера позволяет игроку искать информацию вне игры — например, библейские ссылки для квеста «Код Кингсмута» или расшифровку из «Золотого жука».
Такое размытие границ между реальностью и вымыслом усиливает конспирологический эффект, характерный для готики. Как подчёркивает автор, ужасы всегда стремились убедить не только в «подвешенности неверия», но и в реальности самого ужаса.
Игра приглашает игрока глубже погружаться в текст, исследовать его как сложную систему знаков, что, по мнению Кживински, является важной инновацией в готическом игровом опыте и делает значительный вклад в развитие американской готики внутри цифровой культуры.
Заключение
В заключительной части своей статьи Таня Кживинска подводит итоги и формулирует ключевые выводы. Она отмечает, что американская готика — это не жёстко привязанное к национальности явление, а художественная стратегия, связанная с процессом создания вымышленных миров. Именно поэтому она органично адаптируется к форме цифровых игр.
Автор подчёркивает, что в современных играх американская готика далеко не всегда связана с национальностью разработчиков. Наоборот, как показывает практика, к ней чаще обращаются европейские или японские студии. Главное здесь — не кто создаёт игру, а где она происходит, какие темы, мифы и образы используются.
Такие элементы, по словам Кживински, служат не только для придания глубины игровому миру, но и апеллируют к «игровой грамотности» — способности игроков распознавать и интерпретировать знакомые культурные коды. Примером такого подхода служит The Secret World, где отсылки к американской готике встроены на всех уровнях.
Кживинска упоминает и японскую серию Silent Hill, где американская готика становится частью авторского переосмысления. Японские разработчики, как пишет исследовательница, интерпретируют американскую готику через призму своего непонимания сюрреализма Дэвида Линча, что приводит к своеобразному искажению привычного нарратива. Автор ссылается здесь на исследование канадского медиа-теоретика Мартина Пикара.
Особое внимание Кживинска уделяет ключевой теме американской готики — возвращению вытесненного (the return of the repressed), то есть возвращению травм, страхов и исторических призраков. В играх эта тема, по мнению автора, получает интересное развитие.
Так, в игре Midnight Mysteries: Salem Witch Trials (2012) действие происходит в Салеме — городе с тяжёлым историческим наследием. Как и в пьесе «Суровое испытание» Артура Миллера или романе «Алая буква» Натаниэля Готорна, игра вскрывает кровавое и репрессивное прошлое, далёкое от мифа об «американской мечте». Игрок помогает призраку писателя Готорна расследовать собственную смерть, а также косвенно сталкивается с историей его отца — судьи на знаменитом процессе над ведьмами.
По мнению Кживински, образы «беспокойных мертвецов», восстающих из могил по причине гнева, вины или жадности, — одна из классических фигур американской готики, особенно в игровом контексте. При этом такие персонажи часто несут в себе не только атмосферу ужаса, но и социальную критику — намёк на замалчиваемые или вытесненные проблемы семьи, общества, институций.
Примером подобного подхода становится и эпизод из The Secret World, где игрок отправляется за пределы кладбища Кингсмута и обнаруживает массовые безымянные захоронения. В одной из могил — сожжённые тела ведьм из Салема, в другой — жертвы индустриальной катастрофы, которую власти скрыли. Эти мёртвые становятся не просто противниками, а воплощением исторического и социального ужаса.
В Alan Wake, как отмечает Кживинска, преследование героя — дело его собственных рук. Здесь также звучит мотив возвращения вытесненного: хотя в игре упоминаются коренные жители и осквернённые священные земли, в центре оказывается исчезновение жены Уэйка — «инакой» фигуры, жертвы, олицетворяющей страх. Именно она боится темноты, а не сам Уэйк, но постепенно его страх захватывает пространство. Гендерная тема вплетена в структуру страха и вытеснения, что перекликается с психоаналитической теорией Зигмунда Фрейда о вытеснении и возвращении подавленного.
Кживинска подчёркивает, что, хотя термин «американская готика» редко используется игроками для описания игр, он остаётся полезным аналитическим инструментом для понимания современной игровой культуры. В целом готика в играх принимает множество форм и трудно поддаётся строгой классификации. Однако американская готика выделяется своей узнаваемой палитрой приёмов, в первую очередь благодаря пространству — сеттингу.
Именно поэтому, заключает автор, американская готика стала неотъемлемой частью игрового языка, встроилась в глобальную «грамматику» видеоигр. Однако это же делает её сложной для простого национального определения. Сегодня американская готика — это уже не географическая реальность, а часть универсального игрового кода, который используют создатели по всему миру.
--
Источник: Tanya Krzywinska, Digital Games and the American Gothic: Investigating Gothic Game Grammar. In: Intersemiose. Revista Digital, vol. 2, no. 4, 2013, pp. 207–224.
Доступно онлайн: https://www.neliufpe.com.br/wp-content/uploads/2014/02/12.pdf
В заключительной части своей статьи Таня Кживинска подводит итоги и формулирует ключевые выводы. Она отмечает, что американская готика — это не жёстко привязанное к национальности явление, а художественная стратегия, связанная с процессом создания вымышленных миров. Именно поэтому она органично адаптируется к форме цифровых игр.
Автор подчёркивает, что в современных играх американская готика далеко не всегда связана с национальностью разработчиков. Наоборот, как показывает практика, к ней чаще обращаются европейские или японские студии. Главное здесь — не кто создаёт игру, а где она происходит, какие темы, мифы и образы используются.
Такие элементы, по словам Кживински, служат не только для придания глубины игровому миру, но и апеллируют к «игровой грамотности» — способности игроков распознавать и интерпретировать знакомые культурные коды. Примером такого подхода служит The Secret World, где отсылки к американской готике встроены на всех уровнях.
Кживинска упоминает и японскую серию Silent Hill, где американская готика становится частью авторского переосмысления. Японские разработчики, как пишет исследовательница, интерпретируют американскую готику через призму своего непонимания сюрреализма Дэвида Линча, что приводит к своеобразному искажению привычного нарратива. Автор ссылается здесь на исследование канадского медиа-теоретика Мартина Пикара.
Особое внимание Кживинска уделяет ключевой теме американской готики — возвращению вытесненного (the return of the repressed), то есть возвращению травм, страхов и исторических призраков. В играх эта тема, по мнению автора, получает интересное развитие.
Так, в игре Midnight Mysteries: Salem Witch Trials (2012) действие происходит в Салеме — городе с тяжёлым историческим наследием. Как и в пьесе «Суровое испытание» Артура Миллера или романе «Алая буква» Натаниэля Готорна, игра вскрывает кровавое и репрессивное прошлое, далёкое от мифа об «американской мечте». Игрок помогает призраку писателя Готорна расследовать собственную смерть, а также косвенно сталкивается с историей его отца — судьи на знаменитом процессе над ведьмами.
По мнению Кживински, образы «беспокойных мертвецов», восстающих из могил по причине гнева, вины или жадности, — одна из классических фигур американской готики, особенно в игровом контексте. При этом такие персонажи часто несут в себе не только атмосферу ужаса, но и социальную критику — намёк на замалчиваемые или вытесненные проблемы семьи, общества, институций.
Примером подобного подхода становится и эпизод из The Secret World, где игрок отправляется за пределы кладбища Кингсмута и обнаруживает массовые безымянные захоронения. В одной из могил — сожжённые тела ведьм из Салема, в другой — жертвы индустриальной катастрофы, которую власти скрыли. Эти мёртвые становятся не просто противниками, а воплощением исторического и социального ужаса.
В Alan Wake, как отмечает Кживинска, преследование героя — дело его собственных рук. Здесь также звучит мотив возвращения вытесненного: хотя в игре упоминаются коренные жители и осквернённые священные земли, в центре оказывается исчезновение жены Уэйка — «инакой» фигуры, жертвы, олицетворяющей страх. Именно она боится темноты, а не сам Уэйк, но постепенно его страх захватывает пространство. Гендерная тема вплетена в структуру страха и вытеснения, что перекликается с психоаналитической теорией Зигмунда Фрейда о вытеснении и возвращении подавленного.
Кживинска подчёркивает, что, хотя термин «американская готика» редко используется игроками для описания игр, он остаётся полезным аналитическим инструментом для понимания современной игровой культуры. В целом готика в играх принимает множество форм и трудно поддаётся строгой классификации. Однако американская готика выделяется своей узнаваемой палитрой приёмов, в первую очередь благодаря пространству — сеттингу.
Именно поэтому, заключает автор, американская готика стала неотъемлемой частью игрового языка, встроилась в глобальную «грамматику» видеоигр. Однако это же делает её сложной для простого национального определения. Сегодня американская готика — это уже не географическая реальность, а часть универсального игрового кода, который используют создатели по всему миру.
--
Источник: Tanya Krzywinska, Digital Games and the American Gothic: Investigating Gothic Game Grammar. In: Intersemiose. Revista Digital, vol. 2, no. 4, 2013, pp. 207–224.
Доступно онлайн: https://www.neliufpe.com.br/wp-content/uploads/2014/02/12.pdf